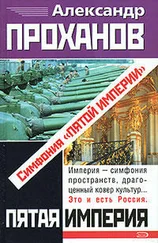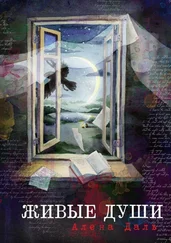Санитарки впряглись в каталку, сильно и плавно двинули, протолкнули в дверь операционной, и женщина на лафете оказалась среди холодного блеска, окруженная кафелем, сталью, стеклом.
Из белизны, выделяясь голубоватой тенью, возник хирург. Как дух, витал над женщиной, не касаясь земли. Облетал ее недвижное тело, живот, расплывшиеся, с набухающими железами груди. Чернильные глаза хирурга зорко мерцали, рассматривая женщину из пустоты. Та пугалась парящих над ней нечеловеческих глаз. Дышала сильнее. Приподняв руку, поправляла светлые, аккуратно уложенные волосы. Сжимала ноги, обутые в зеленые бахилы.
— Перекладывайте, — командовал хирург.
Сарафанов оцепенел, словно и его коснулись колдовские чары. Парализовалась воля, окаменело тело. Только жадно и страдальчески смотрели глаза и беспомощный мозг хранил одну незамороженную, неомертвелую мысль: «Смотри!.. Ты должен на это смотреть!..»
Медицинская сестра с мучнистым лицом, седыми, из-под белого колпака, волосами священнодействовала над хромированным сосудом, в котором булькал кипяток. Позванивала инструментами, словно повариха, затевала таинственное варево. «Суп из младенцев», — мелькнула у Сарафанова жуткая мысль.
— Перекладывайте! — повторил команду хирург, продевая пальцы в бесцветные резиновые перчатки.
Санитарки в четыре руки приподняли женщину и грубо, как куль, перевалили на стол. Приподняли ей ноги. Уложили на подставки. Вдели ступни в стальные стремена. Она лежала, раздвинув колени, воздев к потолку зачехленные в бахилы ступни. Большой живот с глубоким пупком взволнованно дышал. Испуганная, беззащитная, готовая рыдать, умолять, водила по сторонам выпуклыми глазами.
— Двойную дозу! — приказал хирург. Сестра оранжевым жгутом перетянула женщине руку, так что на сгибе стала пульсировать темно-синяя вена. Ловким уколом впрыснула снотворное. Мягко давила на шприц. Выдернула тонкую, блеснувшую под лампой иглу.
Сарафанов смотрел, как меркнет в ней сознание.
Снотворное омывало ее сумеречным беспамятством. Погружало в текущие воды темных сновидений. Веки опускались. Под ними стекленела влажная, неприкрытая полоска глаз, повернутых прочь от слепящего света хирургической люстры в глубинный колодец уснувшей памяти, где колебался безымянный животный мрак.
Женский живот дышал. Колебался легкий волосяной лобок. Смугло-коричневое лоно было слеплено, склеено, как морской моллюск. В нем, упрятанный в материнскую плоть, уже забытый матерью, преданный ею, отданный на заклание, притаился плод. Крохотный красный клубень, в котором набух прозрачный пузырек головы, вздулись водянистые горошины глаз, выступили скрюченные, едва намеченные лапки с пупырышками пальцев. Колбочка, в которой, как в капельнице, пульсировали соки, сочилась теплая влага.
Каждая секунда прибавляла эмбриону щепотку народившихся клеток, увеличивала растущую почку, нацеленную вовне, из материнского лона во внешний мир. И этот мир приготовил ему снаружи отточенную сталь и иглу, крюк и скребок. Подстерегал у врат, готовил смерть.
Женщина, лежащая на одре, была какой-нибудь почтовой служащей или уборщицей, незамужней, с ничтожной зарплатой. Ребенок был ей в бремя — не прокормить, не вырастить. Не решаясь стать матерью-одиночкой, решилась на аборт, уже шестой, принимая из рук благодетелей мзду за убиваемое, нерожденное чадо.
Хирург на секунду задумался. Словно кто-то положил ему на сердце камень. Надгробие без имени, где отсутствовала дата рождения, а одна только дата смерти. Еще один камень, в дополнение к бесчисленным, из которых сложена огромная башня его смертного греха. Он продлевал жизнь эмбриону — комочку из красных пленок, сеточке кровеносных сосудов, капельке живого раствора, из которых мог бы взрасти Сергий Радонежский, или Петр Первый, или Семен Дежнев, или Сергей Есенин, или Юрий Гагарин. Или просто раб Божий, русский человек, сын доброго, жертвенного, бесстрашного народа, который населил огромный материк между трех океанов, утвердил могучее государство, прожил великую историю, сотворил иконы и книги, дворцы и храмы, реакторы и самолеты, а теперь исчезает с земли, как весенний пар на лесных опушках, оставляя беспризорной огромную пустеющую страну.
— Начали! — хирург очнулся. Протянул руку к орудиям, удобно разложенным на столике.
Зеркало из хромированной полированной стали, в виде желоба, похожее на сапожный рожок, отразило голубую молнию лампы. Ушло в промежность, в черный зев, направляя внутрь яркую вспышку света. Осветило темно-красную нишу, священный кокон, где зрела потаенная жизнь. Стальные расширители растворили трепещущее лоно, не давали ему сжаться, расталкивали нежную ранимую плоть. Скребок-кюретка, с отточенными кромками, был насажен на пластиковый шланг насоса, который ниспадал, погружаясь в граненый контейнер, в сияющий, сверхплотный кристалл. Орудие убийства, металлический стержень, сжатый резиновой перчаткой хирурга, медленно уходил в лоно, в распахнутую глубину, передавая чутким пальцам прикосновения к нежным стенкам, к мускулистой наполненной матке, к прилепившейся сочной личинке. Рывок скребка. Красный флакон зародыша лопнул. Брызнула жижа. Насос с тихим чмоканьем, хлюпом погнал красную, как варенье, жижу сквозь прозрачную трубку. Малиновая трубка дергалась, сосала перетертого в слизь и сукровь крохотного человека. Всасывала не успевшую развиться галактику. Сглатывала раздавленную у истоков судьбу. Хватала казненную безгрешную душу, чей неслышный вопль, заглушаемый чмокающим звуком насоса, подхватывали рыдающие ангелы. Прижимали к груди убиенное дитя, похожее на нераспустившийся красный бутон. Влекли в райский сад. Но под сводом операционной заработал воздухозаборник — серебристый раструб с черным зевом. Мощно вдохнул, отнимая у ангелов невесомую душу. Утянул в бесконечную тьму, где душа вернулась в слепую безбрежность, откуда ей не было выхода и воплощения.
Читать дальше