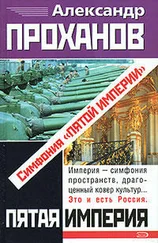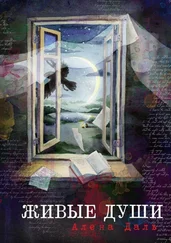— Да зачем же так шумно! — она счастливо смеялась. — Мне и надеть-то нечего.
— Поедем сейчас покупать.
— Куда? Уже поздно. Может быть, завтра?
— Нет, немедленно. В самые дорогие магазины!
Они поехали на Манежную площадь, в подземные торговые ряды, где размещались самые дорогие бутики. Стеклянный мир, где они оказались, напоминал драгоценный музей, в котором можно было выбирать восхитительные экспонаты и уносить с собой. Две кредитные карточки — золотая и платиновая — позволяли Сарафанову, не прибегая к помощи портмоне, одаривать свою милую всем великолепием туалетов. Среди витрин, бесстрастных манекенов, суровых охранников с рациями и любезных служителей они с Машей переходили из бутика в бутик, совершая священнодействие.
Она выбрала себе много-много нарядов.
— Я разоряю тебя, мой милый. Ты потратишь на меня целое состояние.
— На кого же мне тратить, любовь моя.
В ювелирном отделе Маша выбрала себе подвеску из зеленоватого крупного сапфира, оправленного в золото. Приложила к открытой шее переливающийся голубой камень.
Глядя, как дрожит и плещет лучами голубая звезда, он вдруг понял, что желал бы ей подарить в день их венчания рукотворный бриллиант, что сотворялся в его потаенной лаборатории. Мистическую драгоценность, что таила в себе волшебную, благодатную силу. Не сказал ей об этом. Пусть будет для нее сюрпризом.
Они покинули магазин и вернулись к машине, где услужливый шофер принял у них покупки.
Был морозный московский вечер с оранжевыми и голубыми фонарями, каждый из которых был окружен размытыми спектрами. Манежная площадь, заснеженная, с чугунными оградками и балюстрадами, была полна праздного, окутанного паром народа. По Охотному ряду, удаляясь к Лубянке, текло рубиновое месиво хвостовых огней. С Тверской скользили пышные лучистые фары, словно флаконы водянистого света. Сарафанов оглядывал кирпичное здание Исторического музея, конную статую Жукова, туманный, полный снега и сумрака Александровский сад. Невидимая, близкая Красная площадь тревожила его воображение. Давала о себе знать таинственной гравитацией, словно там, за Историческим музеем и прилепившейся к нему Иверской часовней находился могучий магнит. Воздействовал, притягивал, пронизывал легкомысленную толпу незримыми силовыми линиями.
Сарафанову остро, неодолимо захотелось побывать на площади, на которой он не был с незапамятных времен.
— Ты не хочешь немного прогуляться? Выйти на Красную площадь? — он приобнял Машу за плечо, заслоняя от ветра. — Не замерзнешь?
— Буду рада. Я тоже давно не была, — она благодарно прижалась к нему, и так, обнявшись, они пробирались сквозь многолюдье.
Вышли к Иверской, которая казалась нарочитой и мнимой, возведенной городскими властями с единственной целью — закупорить въезд на Красную площадь, по которому в дни военных парадов двигались дымящие танки, катили гигантские цилиндры ракет, шествовали полки. Это желание не пустить на площадь могучие силы истории, отсечь великую русскую площадь от животворящих исторических сил, обескровить ее, лишить мистической роли ожесточало Сарафанова. Вызывало враждебность к часовне. Делало ее мелкой, фальшивой, ненужной.
Толпа кипела и здесь, мигали лампочками торговые киоски, мерцали лампадки в дверях часовни, в проигрывателях звучала душераздирающая, с азиатскими повизгиваниями, музыка. Люди что-то покупали, ели, хватали завернутое в тесто мясо, хохотали, выдували на губах пузыри от жвачки. И этот балаган перед входом на священную площадь больно отозвался в душе Сарафанова. Он уже жалел, что отправился в экспедицию, которая не принесет ничего, кроме боли и разочарования.
На подходе к площади, почти у самого постамента, на котором возвышался Жуков, собралась экзотическая группа. Долговязый, с виду пьяный, малый в поношенной шубе дергал за веревку обезьяну. Облаченная в телогрейку, в теплых валенках, обезьяна скалилась, раздражалась, запрокидывала голову, вливая в пасть бутылку пива. Парень мешал ей пить, больно дергал, а обезьяна злобно повизгивала, не отпуская бутылку. Тут же стоял старый стул, и на его спинке нахохлился усталый, тяжелый, с замызганными перьями орел. Он был прикован за ногу тонкой цепочкой. Вокруг топталась растрепанная, нетрезвая девка с одутловатым лицом, щелкала перед клювом орла грязными пальцами, но угрюмая птица обреченно закрывала глаза желтой пленкой, вяло шевелила истрепанными перьями. В этой же группе оживленный, с багровыми щечками, с комочком бороды, в кепке и пальто, на котором красовался алый бант, расхаживал двойник Ленина.
Читать дальше