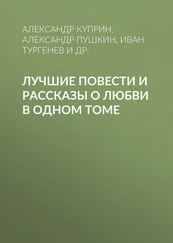Янчова поставила свою тележку на крестьянской делянке, а сама, переступив границу, отправилась в помещичий лес. Все дрова, какие ей удалось насобирать, она перетащила через просеку на свою тележку. Угрызения совести ее при этом нисколько не мучили. Во-первых, суп-то сварить надо — тут уж ничего не поделаешь, во-вторых, арендатор отнял у нее топор. В-третьих, небо не слишком торопилось восстановить справедливость — арендатор все еще не разорился вконец.
Чем безалабернее он хозяйничал, чем хуже обстояло дело на его полях и с его скотиной, чем больше он погрязал в долгах, тем зорче следил, где бы содрать несколько марок штрафу. С этой целью он приколотил в разных местах таблички с предупреждением: «Вход воспрещен! За нарушение штраф — 5 марок».
Такая же табличка запрещала вход в ту часть леса, откуда Янчова обычно таскала хворост.
С таким запретом Янчова, конечно, не могла считаться, и, хотя она была начеку, как сторожевая собака, как-то утром арендатор все-таки застиг ее в своем лесу.
К счастью, она только что перешла через просеку и в руках у нее не было даже еловой шишки.
Она отказалась уплатить ему пять марок, а потому ей было послано из полиции извещение уже о более высоком штрафе, а так как она продолжала бороться за справедливость, из ее вдовьей пенсии в следующую выплату вычли почти двойную сумму — девять марок.
Это имело двоякие последствия: во-первых, внук, который уже успел дойти до пятого класса школы, теперь ходил с нею вместе в лес и следил за тем, чтобы снова не нагрянул «сумасшедший черт». Во-вторых, в ту осень, впервые в истории деревни, женщина выступила на политическом собрании.
А случилось это так. В стране опять проходили выборы. В трактире состоялось собрание. Речь должен был произнести арендатор.
Трактир был почти полон, потому что рабочие и служащие поместья получали сверхурочные за участие в собрании. Да еще пришел лавочник со всеми, кто у него получал жалованье, а также регент и портной Возоль, который страсть как любил шить форменную одежду.
Арендатор довольно долго разглагольствовал о «республиканских бонзах», о «железной метле», «национальной чести», «отечестве» и тому подобном, причем регент, лавочник, портной и некоторые люди из помещичьего имения громко ему аплодировали.
Янчова не слишком хорошо разбиралась в словах арендатора. Но одно она усвоила из долгого опыта: если богатые так долго и так дружески разговаривают с рабочими, то они готовят нечто худшее, чем если бы они ругались, кричали или грозились.
Ни один из работников имения не осмелился что-либо возразить, когда задали вопрос, не желает ли кто-нибудь выступить.
Вот почему Янчова встала, улыбнулась не то смущенно, не то доверчиво и начала:
— Я не умею так красиво говорить, как господин арендатор. Я ведь только старуха Янчова, и господин арендатор знает куда больше, чем я. Но одно я знаю твердо: приветливость господ держится не дольше, чем снег на троицу. И что те, кто вытаскивает занозы из господской задницы, получает за это одни колотушки!
Тут вмешался регент и произнес твердо:
— К делу, Янчова, к делу!
А лавочник потребовал, чтобы ее лишили слова.
— Я знаю, что, говоря господам правду, можно обжечь себе язык, — смело продолжала женщина, не обращая внимания на возражения. — Я хочу еще только сказать, — вот господин арендатор столько говорил об отечестве. Только у господина арендатора отечество-то другое, чем у нас. Отечество для богатеев — это жандарм для бедных.
— Прекратить! Прекратить! — закричал портной.
— Тихо! — Кузнец из поместья так зашипел на портного, что тот чуть не свалился со стула.
— Мы не для того здесь собрались, чтобы слушать всякую несуразицу, — довольно внятно проворчал регент.
— Слушали же мы в школе все, что говорил нам регент, — возразил «господский» Ян, и все работники злорадно захохотали.
Арендатор в нерешительности покусывал ус и напряженно раздумывал: «Что лучше, дать старухе выговориться или же заткнуть ей рот…»
— Продолжай, Мария! — потребовали теперь работники, не дожидаясь решения арендатора.
Янчова не заставила себя долго упрашивать.
— И потом, господин арендатор так долго говорил о чести. — Тут старуха сменила свою нескладную, спотыкающуюся немецкую речь на родную лужицкую. Хотя лавочник, регент и арендатор прекрасно понимали по-лужицки (между собой, правда, они не разговаривали на языке рабочих и крестьян), они сообразили, что теперь Янчова обращается только к работникам. — Я не знаю, что такое его честь. Я знаю только, что такое голод. Но об этом арендатор не говорил, потому что он не знает голода. Я знаю также, что такое холод. А господин арендатор знает только одно: как отнимать у бедных людей дрова. И топор за пять марок. И вычесть девять марок из пенсии, а получаю-то я всего семнадцать.
Читать дальше
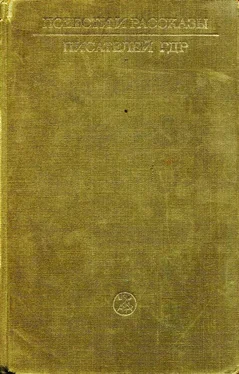









![Франц Фюман - Первый миг свободы [Рассказы писателей ГДР]](/books/414134/franc-fyuman-pervyj-mig-svobody-rasskazy-pisatelej-thumb.webp)