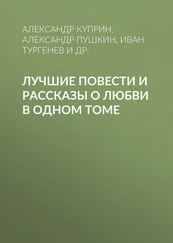Ночь после повешения Кольмайера Вайс и Холлерер провели в низине, где стояла рота, на чердаке хижины с видом на виселицу, куда их поместил фельдфебель. Силуэт повешенного, черный на фоне светлой лунной ночи, повис в раме чердачного окошка. Вайс, одетый, лежал на нарах, держа под одеялом снятый с предохранителя автомат; в темноте глаза его горели злобой и страхом. Холлерер мог бы тут же его прикончить. Он чувствовал на своей спине горящие глаза Вайса и не шевелился, он видел, как страх постепенно сводит с ума его врага; когда уже рассвело, Вайс начал тихо и безостановочно скулить. Холлерер устоял перед соблазном навсегда прервать эти отвратительные звуки. Он говорил себе: «Я задушу его, а что дальше? Дальше-то что?»
Повизгивания Вайса напомнили Холлереру издевательские выкрики: «Га-азы! Га-а-зы! Эй, вы там, прежде чем!..» Холлерер вздрогнул, его прошиб пот… «Эй, прежде чем вы… Я… Все!»
«Нет, жить на свете вместе с Вайсом невозможно», — беззвучно воскликнул Холлерер, глядя на виселицу. Повешенный не отвечал, не шевелился. «Натянуть противогаз на морду!..» Холлерер распахнул окно, судорожно вцепился пальцами в деревянную раму, глубоко вобрал в легкие морозный воздух. Нет, не теперь, не здесь, неохота ему погибать из-за Вайса, в другой раз, когда-нибудь в другой раз… Но разве этим будет разрешен вопрос о всех вайсах в мире? Повизгивания за спиной Холлерера становились все тише и тише и вдруг сменились резкими сиплыми лающими звуками. Раскачиваемый ветром труп повешенного с треском повернулся, обратил на Холлерера свое серое опавшее лицо. «Га-зы! Га-зы! Эй, вы там, прежде чем натянуть противогаз на морду… поправьте каску! Что у вас в рюкзаке — гелий, что ли? Вы летите, а не маршируете! Назад, на пятках, прошу покорно! Вытянуть, как полагается, винтовку, считать громче, я ничего не слышу! Устали, не устали — веселей! Сто сорок один раз в честь полка, лечь-встать, лечь-встать!..»
Дз-зинь! Финка упала на пол. Блеснуло лезвие ножа. Холлерер смертельно побледнел, его рука со скрюченными пальцами потянулась вперед, хныканье стало громче, отвратительнее, перешло в бредовый шепот; кровь глухо стучала в висках Холлерера, выбивала: «…тридцать… сорок…» В памяти мелькало: противогаз, рюкзак, каска, горячие потрескавшиеся губы, лоб в песке, все в каком-то кровавом тумане. Пухлое, сладострастное, циничное лицо Вайса. «На локти, на колени!» Затуманенными, застланными кровью глазами, стоя на коленях, смотрел Холлерер вверх на это пухлое, циничное лицо. Молчаливая, пьянящая радостью минута между боями, палящее солнце между боями, худосочная, серая качающаяся тень — он, Холлерер… «Га-азы!.. Га-а-азы!.. Считать громче! Лечь-встать!.. Честь полка!..»
Хныканье стихло. Холлерер наступил ногой на поблескивающий клинок. Медленно повернулся. Вайс отполз к самой стене, глядя в пространство остановившимися глазами. Холлерер высказал ему все; он сказал, что никогда еще не встречал существа более грязного, липкого, насквозь коварного, он назвал его жалкой кучкой дерьма, в которой живо одно — ненависть.
— Мы с Кольмайером хотели тебя убить там, на сторожевой заставе, мы хотели бежать вместе. — И он рассказал, как солдаты при первом же легком намеке на это замолчали и оглянулись, нет ли поблизости крадущихся шагов, подслушивающего уха. Каким простым все казалось, ведь каждый солдат про себя проклинал нацистов и их войну! Но еще проще было повиноваться и умирать.
Утром, когда взошло солнце и тень повешенного падала в мансарду, Холлерер очень тихо, с отвращением заговорил о том, как невыносимо жить в одном мире с Вайсом.
Лицо Вайса снова приняло циничное выражение. Он понял, что ему ничто не угрожает. Запомнил каждое слово, ни одного не упустил.
В свое время он заставил Холлерера «лечь-встать» сто сорок один раз в полной военной выкладке — в противогазе и каске. Но вблизи линии фронта Вайс был приветливым, заискивающим камрадом обер-егерем. Он помнил каждое слово, сказанное в его адрес, ни одного не забывал, но делал вид, будто все это его ничуть не трогает. Он стал еще предупредительнее на краю Хальденфьельда, на сторожевой заставе, куда оба вернулись на другой день. Обер-егерь Вайс обращался к каждому на «ты», по-отечески пекся обо всех, облегчал службу, всем поддакивал. Нельзя было думать откровенно, приходилось быть настороже даже с самим собой; если кто-нибудь шептался с товарищем, рядом неожиданно вырастал Вайс, благожелательный, с коварным блеском в невинных глазах. Он и советы давал в своей вежливо-подлой манере. Холлерер чувствовал, что Вайс постоянно провоцирует его и порой даже унижается, стремясь хитростью вырвать у Холлерера такие слова, за которые расплачиваются жизнью.
Читать дальше
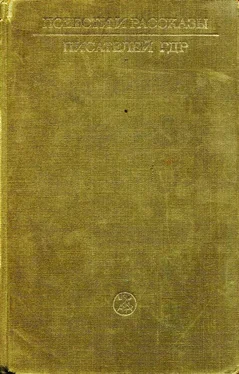









![Франц Фюман - Первый миг свободы [Рассказы писателей ГДР]](/books/414134/franc-fyuman-pervyj-mig-svobody-rasskazy-pisatelej-thumb.webp)