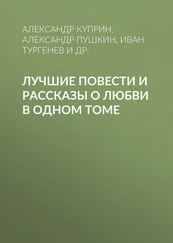А Герман уже не мог дольше скрывать от себя, что почти никто не последовал его указаниям. Тогда он решил сам подсобить. Время от времени он ударял молотком по шарнирам, чтобы привести в негодность часовые механизмы, управляющие взрывом.
Франц твердо решил, что уже никакая случайность не должна нарушить его спокойствие. А Герман все же правильно оценил Кресса. Но самого Германа одолевали сомнения. Так как почти никто не участвовал в саботаже, то вполне возможно, что Кресс так и не нападет на брак; но если он все же что-нибудь заметит и донесет, будет легче легкого установить и самый факт саботажа. Тогда их могли арестовать при уходе домой с работы, чтобы не привлекать внимания на заводе, если Кресс все-таки донесет. Но кто, в конце концов, в чем-либо упрекнет самого Кресса, когда ящики уже прошли через отдел контроля? Однако Кресс, знающий это предприятие до мельчайших деталей, вероятно, может представить себе, за что и в чем его могут упрекнуть. Такой человек, как Кресс, боится сильнее других. Ведь и другие отступились, а умирать Крессу не хочется так же, как и им. И ему, верно, хочется опять увидеть жену и ребенка.
«Когда мы увидимся вечером, — думал Кресс, — вы и не заметите, что тот, с кем вы сегодня поздороваетесь, уже не похож на вчерашнего. Дочка встретит меня с той нежностью, какую я мечтал бы видеть со стороны матери. Она поцелует меня в оба уха и в кончик носа. Принадлежат ли эти уши и нос маске, надетой сегодня на вчерашнее лицо? Или на сегодняшнее лицо еще вчера была надета маска? Жена будет спокойно наблюдать нашу встречу, нальет всем чаю, примется рассказывать то и другое, а думать будет все об одном. Она уже однажды бросила мне в лицо: «Когда-то ты весь мир хотел изменить, и поэтому я тебя полюбила; но мир изменил тебя». Она заботливо и вежливо накормит меня ужином, с плохо скрываемым пренебрежением. И мне придется все это терпеть. Я не смогу объяснить ей, почему именно сегодня она может быть мной довольна».
Он уже заранее приготовился к тому, что сегодня не все сойдет гладко. Он даже минутами вспоминал о Германе. Такой человек время от времени наверняка что-нибудь пытается сделать. Тем более он не будет дремать сегодня. А на заводе имеется, конечно, не один такой Герман. Однако он проверял и проверял. Нет, все в порядке. Покончив с измерительными инструментами, он, согласно предписанию, отправил гранаты из каждой партии на полигон. Он не был удивлен, когда и оттуда не последовало никаких сигналов.
Шпенглер, помогавший при погрузке и выгрузке ящиков, которые поступали на последний контрольный пункт, а затем шли в экспедицию, то и дело поглядывал на Кресса, отрываясь от работы. Однако он видел только одно — рот инженера кривился все насмешливее. Но вот и обед. Вскоре после перерыва что-то в этом лице изменилось. И Шпенглер сейчас же понял, в чем эта перемена: в лице Кресса ничего не прибавилось нового — наоборот, что-то исчезло. На одно короткое мгновение рот перестал кривиться насмешкой или презрением, смотря по тому, что в этом лице сейчас преобладало. Это продолжалось всего несколько секунд — ровно столько, сколько нужно было, чтобы измерить микрометром некоторые детали той гранаты, которую Кресс взял для проверки. Когда Шпенглер во второй раз взглянул на Кресса, лицо у того было уже такое, как всегда. Но Шпенглер теперь мог себе представить, какое было бы лицо у Кресса, если бы… Если бы, думал Шпенглер, не на секунды, а навсегда в нем могло бы остаться то, что сейчас только мелькнуло. Увидев, что Кресс отложил эту гранату не в брак, а к остальной продукции, где все было в порядке, Шпенглер облегченно вздохнул: «Значит, он с нами заодно, значит, не донесет». А Кресс уже давно дал знак своему помощнику взять на проверку следующий экземпляр. Его рот опять кривился насмешливо или устало. Казалось, у него было два лица, разительно схожих, хотя только одно из них могло быть его истинным лицом. Меньше всего он обращал внимания на упаковщика, который и сегодня, как обычно, стоял в нескольких метрах от него.
Вечером в раздевалке Шпенглер подошел к Герману:
— Кресс догадался, но он будет молчать, не беспокойся.
Однако Герман не имел возможности тут же успокоить Франца и Пауля; придется им еще помучиться страхом, что при выходе их незаметно арестуют. С огромным облегчением Герман думал: какое это счастье через два часа опять все увидеть — тропинку, ведущую к пристани, корявые ивы, жену на крыльце и сынишку, который будет тереться о его ноги, как щенок. Он понял также, что боялся ничуть не меньше других, скорее даже больше. Ведь он больше чем кто-либо привязан к жизни, и ему особенно больно от нее отказываться.
Читать дальше
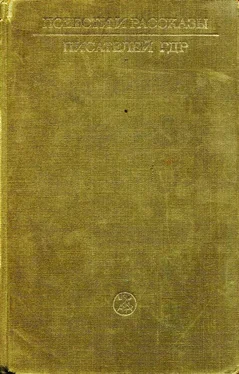









![Франц Фюман - Первый миг свободы [Рассказы писателей ГДР]](/books/414134/franc-fyuman-pervyj-mig-svobody-rasskazy-pisatelej-thumb.webp)