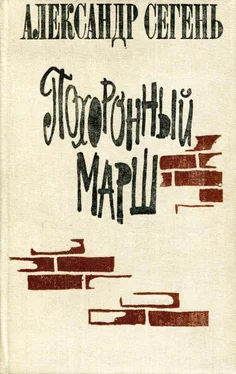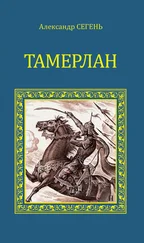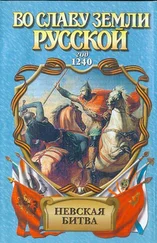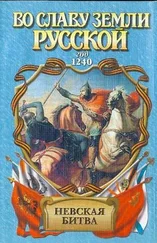— Будете хорошо себя вести, — говорила нам с Юрой наша мать Анфиса, — в воскресенье пойдем в ДК Лазо.
Но это зависело даже не от нашего поведения, а от того, хочет ли в воскресенье мать Анфиса пойти с нами в кино или она хочет с утра пройтись по достопримечательностям Старопитейного, а вечером уже ничего не соображать. Изредка мы все же ходили с ней, она брала билеты в третьем ряду, сажала нас по обе стороны от себя, и первое, что я помню о кино, это трепетное ощущение угасания света в зале, нечто мистическое, будто некий таинственный обряд, и когда экран вспыхивал, Юра начинал шумно ерзать и ликующе объявлял:
— Кинё-о! Кинё-о!
На протяжении сеанса он сидел внимательно, тихо, только в тишине размеренно шмыгал его нос, в котором каждые десять секунд случались какие-то неполадки. Когда фильм кончался, Юра оповещал всех, и в первую очередь — самого себя:
— Конес. Коне-ес.
И я тоже, считая, что так надо, говорил:
— Конесь.
Мать смеялась над нами любящим смехом, а первое, что я любил в кино, это угасание света и торжественное произнесение слова «конец».
И вот, сквозь слепую пелену непонимающего глядения на экран брызнули чувственные слезы, когда милый мой Мухтар кинулся в вагон, где засел преступник, и из вагона раздался выстрел по живому собачьему телу, а за слезами — дурак! дурак! — закричал Бальзаминов, и пошли на Иванушку Дурака жуткие корявые пни, оживленные словом Бабы Яги, «Ключ!» — рявкнули стометровые великаны Королевства Кривых Зеркал, спину Билла обожгла раздавленная ногой Вождя Краснокожих картошка, и Билл, испачканный сажей, завернутый в плотную кору нескольких слоев обоев, взмолился к Шурику: «А может, не надо, Шурик?», но безжалостный Шурик сказал: «Надо, Федя, надо», и так свистяще секанул скрытую от зрителя Федину ягодицу, что я подпрыгнул от боли на своем месте, а на экране уже высветились фонарем Геркулеса две отрубленные негритянские руки, и голос, полный ужаса, воскликнул: «Это не Америка! Это Африка! Африка!», забарабанил по зрительному залу пулемет Анки-пулеметчицы, скашивая бурьян психической атаки, и из-за леса вылетела стремительная конница Чапаева — наши! наши!.. я — Фантомас, ха! ха! ха! — так в мир моего детства, прорвав плотину раннего возраста, хлынуло кино.
Мои первые восприятия экранного мира появились на свет вместе с первыми, неуверенными надписями на стенах домов: «FAНTOMAS». Фантомаса боялись все, и все хотели быть Фантомасом. Но это звание нельзя было получить в школе, как грамоту, нельзя было стырить, как яблоко из палисадника Тузихи, а главное, его нельзя было заслужить хорошим поведением — его можно было только завоевать. Чулок на голову, воротник поднят, движения прямоугольные. Стемнело, я бегу домой с пруда в предвкушении бабкиной трепки, карманы мои полны самодельных денег, выигранных у Ляли и Дранейчика в ножички, и около подъезда меня останавливает властный и тяжкий голое:
— Ни с места!
Я оборачиваюсь, он стоит в лунном луче, лысоголовая фигура, вычерченная луной, наставляет на меня дуло пистолета.
— Я — Фантомас.
Ноги подкашиваются, и я падаю в объятья Фантомаса, который уже лезет в мои карманы и вместе с самодельными деньгами, искусно выполненными рукой Ляли, достает моего личного чижа и раскладной ножик о двух лезвиях, найденный мной в прошлую субботу прямо на проезжей части Маршальской улицы. Очнувшись, я обнаруживаю себя сидящим возле подъезда и думаю, кто же из ребят был этим Фантомасом. И ужасно жаль ножик. Да и чижа я долго обтачивал, чтоб со всех сторон был одинаковым — такой чиж никогда не даст осечки.
На другой день Серега Лукичев вернул мне ножик.
— А деньги? — спросил я.
— Деньги розданы беднякам.
— А чиж?
— Чиж? Улетел, — не моргнув глазом сказал Серега.
Лукичевы жили в желтом кирпичном доме. Семья, состоящая из бабушки, тети Лиды Лукичевой и двух ребят, Сергея и Мишки, ютилась в коммуналке. Как-то раз Эпенсюль попросил меня сбегать за Мишкой, чтоб тот пришел играть в настольный теннис, и у меня навсегда осталось впечатление огромной коммунальной катакомбы, по которой сновали в бигудях какие-то женщины, которых я и знать-то не знал, толстопузый бухгалтер Беларёв, ничем не примечательный в мирском обличии, в коммунальном свете открылся мне с новой стороны — он разговаривал по телефону, стоя на виду у всех соседей босиком, в трико и в майке, причем трико зачем-то поддерживались подтяжками, и взволнованный разговором Беларёв звонко шлепал ими себя по жирдяйским грудям, крича в трубку женским голосом:
Читать дальше