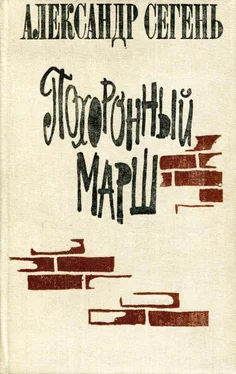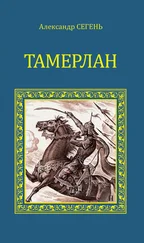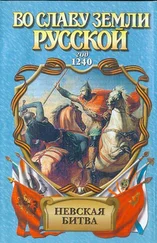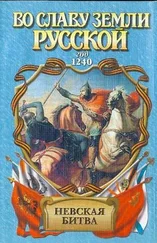Вплоть до начала лета двор жил счастливым избавлением Равилькиной пятерки от участи пропитых денег. В первых числах июня громыхнула, как неожиданный взрыв самодельной бомбочки, ужасная весть — Рашид зарезал собственного отца. Старушки таяли от перепуга и текли перешептываниями от подъезда к подъезду — х-хосподи! осподи! осподи! что же ета! родного отца! царица небесная!
Брал Рашида не Лютик. Какие-то чужие милиционеры вывели его в наручниках из подъезда, а Лютик стоял среди толпы. На нем даже не было милицейской формы, но все равно чувствовалось, что главный человек в этом событии не отцеубийца, а он. Они посмотрели друг на друга. В выкатившихся круче обычного глазах Лютика зиял расплавленный ужас торжества. Во взгляде Рашида поначалу угадывалась пристыженная виновность, но увидев Лютика, он вдруг улыбнулся и уже спокойно и весело в последний раз посмотрел на двор. Машина уехала. Рашид исчез. Люди долго еще стояли сраженные исчезновением всеми любимого весельчака Рашида, кто-то пытался заговорить, но остальные молчали. Молчал и Лютик. Глаза его готовы были вот-вот вылезти из орбит. Казалось, еще немного, и он крикнет:
— Я — индюк, красные сопли, извиняюсь!
Но он не крикнул. Сказал только:
— Да, дела!
И ушел домой.
Хабибулин-старший выжил. Врачи спасли его, а заодно и Рашида от лишних лет отсидки. Учитывая обстоятельства преступления, ему дали три года плюс два условно.
После этого случая Лютик особенно часто стал заикаться о том, что дом у нас хороший, да живет у нас в хорошем доме одна пьянь, шваль да шакалье. Отношение к нему соседей резко изменилось. Все стали бояться его глаз, под взглядом которых, не ровен час, еще кто-нибудь кого-нибудь прирежет. Все меньше и меньше он находил себе слушателей, люди старались избегать его. Особенно запуганным выглядел Лютик-старший. Видимо, он чувствовал над собой дамоклов меч мести за лихие прогулки ремешка по чахлым сопкам детской сыновней ягодицы. Лютик-старший не пил, бросил курить, ласково обходился с женой, но чувствовалось, что ничто уже не спасет его и рано или поздно, не через год, так через два, не через два, так через пять, меч правосудия обрушится на эту несчастную головушку.
А в конце 1982 года объявили, что наш дом подлежит полной реконструкции и капитальному ремонту. Жильцов начали выселять, и потянулись они перелетными стайками в Бирюлево, в Отрадное, в Беляево. На Юго-западную и на кудыкины горы. Перелетели пощипанные Дранеевы, Хабибулины, Расплетаевы. Косяком ушли Типуновы, которые к тому времени уже стали Тяпуновыми, и вместе с ними исчезли крылья нашего двора, белоснежные голуби. Упорхнула бабушка Сашки Кардашова, а сам Сашка, придумавший нам на наши головы милиционера Лютика, давно уже не жил в нашем доме. Вслед за бабой Клавой Кардашовой переехала вместе с сыном Сережей учительница английского языка Ирина Акимовна. Заспанной совой промелькнула Валя Лялина. Улетела Файка Фуфайка, таксист Бельтюков с парализованной женой, семейство Виктора Зыкова и прочие, прочие, прочие…
Лютик ходил по двору зыбкой походкой и разочарованно смотрел на опустошенные скворечники нашего дома. Шваль, пьянь да шпана разлетелась на все четыре стороны и достанется теперь дармовщинкой другим милиционерам.
По пустынному ущелью, в которое превратился теперь наш двор, ходила неприкаянная Фрося Щербакова и не знала, что лучше — умереть или тоже сняться с насиженного гнезда. Она оставалась единственной, кем мог напоследок поживиться Лютик, и он помнил, как она советовала не только лупить, но и кожуру спускать, и не знал пока только, с какого бока к ней подкрасться…. Но вдруг сам получил квартиру в Орехове-Борисове и исчез, увезя вместе с собой мать и ожидающего расправы отца — добычу заветную и лелеемую. Когда они уезжали, Лютик-старший оглянулся на мир своей прежней жизни голубым зачитанным взглядом, горестно усмехнулся и сказал одно только слово:
— Кино!
Некоторым не нравится жить в Москве. Говорят, что здесь все намешано и некуда приткнуться, и негде отдохнуть душой. Не стану спорить — я люблю Москву, но не знаю, за что. Ведь и правда, некуда приткнуться, и везде суета, мешанина, и всюду норовят толкнуть, обругать, прогнать; и хотя я люблю Москву, я способен понять тех, кто ее не любит.
Но наш район не любить нельзя. Я часто думаю о нем, и вот как: или он единственный немосковский район во всем городе, или вся Москва немосковская, а только он один, желто-серый, приютившийся, задумчивый и наивный — может быть, только он один и есть настоящая Москва?
Читать дальше