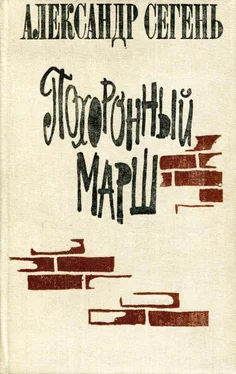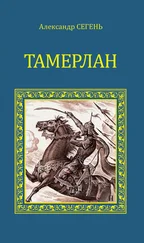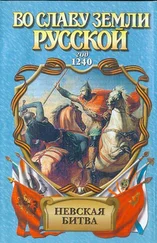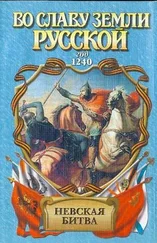В Москве было новое утро. Теплый летний аромат скользил по улицам. Когда он проходил по Красной площади, зеленый Кузьма Минин указал ему направление к дому — знай, парень, свое место. И он шел на свое место. Утренний парад его одиночества приняли по очереди князь Долгорукий и поэты — Пушкин и Маяковский. Воскресный день дарил улицам лишние два часа пустынности.
Дома его встретили обломки плиток и капли крови на полу в ванной, следы ее недавнего пребывания и ее портрет. Хорошо, что не надо было идти на работу. Хорошо, что не надо было никуда идти. Оказалось, что хорошо просто лечь в постель, вытянуть ноги и уснуть.
Спустя три дня он вспомнил о кинокамере, купленной четыре месяца назад на деньги, оставленные ему отцом. Он очень расстроился, что не догадался снять ее на кинопленку. Девушки обожают свои фотографии, и тем более когда их снимают в кино. Она обязательно пришла бы посмотреть, как получилось. Никакой единственный не помог бы ей справиться с любопытством.
Он зарядил свежую пленку и снял увядшие гвоздики, водокачку своего умершего брата, скомканное льняное полотенце, недопитую чашку чаю. Усадил в кресло кусок картона, испачканный сангиной, отснял, потом убрал его и снял вмятинку в кресле.
Он увлекся, нарисовал акварелью ее руку, вырезал ее и уложил на бабкину кровать, так, чтобы она свешивалась с нее; затем снял бабкино окно в лучах солнечного утра, взобрался на выступ фундамента и, держась рукой за карниз, снял акварельную руку в просвете между шторами.
— Боже мой, — подумал он, — я сошел с ума!
На восьмой день он изорвал ее портрет. Он не мог больше видеть ни его несовершенств, ни тех штрихов, которые так пронзительно кричали ему о ней. Он разорвал его и положил под кровать покойного брата, где еще лежал последний братов хлам — несколько кусков пенопласта, несколько железяк и две куклы — Одноножка и Одноручка. Конечно, можно было не рвать, а просто спрятать, и все, но он сначала сделал, а только потом подумал.
На следующий день он весь вечер рисовал ее руку и каждые рисунок аккуратно вырезал, и когда стемнело вокруг него оказалось набросано на полу несколько десятков ее рук. Их он тоже положил к брату под кровать и снова подумал, что сошел с ума. А на другой день вырезал из черной бумаги ее профиль, потом еще десять — всего одиннадцать ее профилей, по числу дней, прошедших с того момента, как он расстался с ней на Красной площади. Из этих одиннадцати профилей три оказались очень похожими, почти точными — ведь профили — это его призвание, как будущего картографа. Он наклеил все профили на бумагу — черные на белую — и прикрепил кнопками к стенам.
На другой день она пришла.
Было шесть часов вечера. Медленно иссякал солнечный свет. На плите щелкала, поджариваясь, яичница… Он стоял у плиты и вдруг, случайно посмотрев в окно, увидел, как она выскочила из подъехавшего такси и направилась в его подъезд. Тогда он подбежал к двери и, затаив дыхание, слушал ее приближающиеся шаги — звонкий цокот ее каблучков, четкий, как стук кастаньет. Она подошла, вздохнула. И нажала звонок. Он стоял и слушал. Она вздохнула еще раз, тихо пропела шепотом — па-па-па — и еще раз нажала звонок. Он неслышно прошел на кухню, потом громко с кухни протопал. Спросил:
— Кто там?
— Это я, — ответила она тихо.
Он открыл. И увидел ее.
На ней было синее платье, на запястье белый браслет, в ушах белые клипсы в форме крыльев бабочки с перламутровым отливом.
— Можно к тебе на минутку?
— Зачем ты спрашиваешь! Проходи. Я так рад тебе.
— Нет, я всего на минутку. Я спешу.
Он видел, что она взволнованна, но понимал, что причина ее волнения не здесь, не в этой квартире, а где-то там, далеко.
— Как дела, Павлик?
— Я ждал тебя.
— Глупости. У тебя что-то подгорает.
— Это я подгораю от радости тебя видеть.
— Нет, не ты. Это на кухне. Скорее, уже дым идет!
— Дым! Это уже серьезно. Как ты думаешь, дыма без огня не бывает?
Он пошел тушить яичницу.
— Как насчет ужина? У меня есть вкуснейшие маринованные огурцы и помидоры. Венгерские.
— Нет, спасибо. Ведь я только на минутку. Можно мне еще раз взглянуть на мой портрет?
— Конечно. Вот он.
Он провел ее в свою комнату и показал одиннадцать силуэтов, черных на белых квадратах, как следы на мокром снегу.
— Это я? Я? Господи, как здорово!
— Выбирай любой, если правится.
— А можно все? А тот портрет?
— Он… сгорел. Случайно.
Она стала откреплять от стены силуэты.
Читать дальше