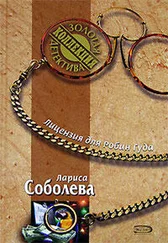Матвей подумал одну секунду.
– Не разлюбит, – сказал он. Действительно, он знал, что в таких, как Дима, красивые девушки влюбляются. Маша была тоже ничего. Вот только потом.
– Только не пей. Хотя бы первое время.
– Уже. – Дима кивнул по телефону. – Я подшился. Одна моя знакомая – другая. Хочет въехать в квартиру. Ей, почему-то, подарила свекровь. От второго мужа. У нее трое детей. Две комнаты на Партизанских. Надо сделать ремонт. Через три часа я иду на работу, а завтра в шесть вечера прихожу с работы. В семь нужно начать. А в пять вечера послезавтра закончить. Чтобы я успел на работу. Я пока не хочу увольняться. Вдруг я ей не понравлюсь.
– То есть ты хочешь работать трое суток без перерыва.
– Я один не смогу, – сказал Дима. – Я никогда не ремонтировал квартиры. – Он подождал. – Она заплатит.
– За один день можно успеть хорошо если купить материалы.
– Всё уже там. Нужно сделать сколько успеем за день. Она хочет въехать. Она сейчас сидит здесь в каком-то доме в Юрьеве с детьми. Рядом лес. Она боится.
– Я дауншифтер, – сказал Матвей. – То есть фрилансер. Какие там еще есть бранные слова? Правый уклонист. Мои знакомые в Москве, тоже девушки, работают в редакциях, они сейчас уехали. Все сейчас уехали из Москвы, говорят, там почти как у нас. Дым в Москве. Я думаю, это хуже, чем у нас. Алло?
– Я слушаю, – сказал Дима.
– Я думаю про конец света. Не Апокалипсис – эта часть Библии мне казалась наименее убедительной. Никаких пиротехнических эффектов…
– Там нет пиротехнических.
– Я не дочитал. Я про идею. Ни взрывом, ни всхлипом. Ничего выходящего за рамки обыденности. Не трещит, не валится. Просто везде чуть-чуть пахнет дымом. Просто куда-то исчез весь воздух. Ползучий конец. И, я говорю о себе, – я по большому счету не против конца. У меня, в отличие от тебя, нет ни малолетних детей, ни влюбленных девушек. Но я против того, чтобы ничего не делать.
– У меня конец света, – сказал Дима. – Ее зовут Света. «Это конец, Света» – такая песня у Умки. Я хочу с ней встретиться.
– И для этого ты хочешь взять деньги у женщины с тремя детьми, оказавшейся в безвыходном положении.
– Ты мне можешь просто так помочь. А я возьму. Деньги.
– Так не пойдет, – сказал Матвей.
– Тогда пополам.
* * *
Матвей снял один матрас из стопки в углу, развернул на полу. Лег. Он встал, закрыл окно. Затянул занавески – простыни, повешенные на скрепках. До этого лета обходился без занавесок. Лучше дым от сигарет, чем этот дым.
Часа через четыре, не то чтоб выспавшись, он лежал и думал о том, о чем думал перед тем, как заснуть.
Девушки из Москвы, давно не однокурсницы. Со своими мужьями и сыновьями, малолетними и не очень. То есть им было к кому отнестись по-матерински; и по-женски было к кому. Ничто их не связывало, кроме нескольких не слишком интересных лет; скорее – зим; не поднимавшихся над кромками учебного процесса разговоров. Никаких романтических воспоминаний, им, как и ему, не свойственных. Они поставляли ему работу по причине своей добросовестной обязательности. Некой классовой солидарности. А он эту солидарность принимал. Чем он в таком случае отличался от друга Димы? Да ничем.
Был он им благодарен? Идущим мелким, но наступательным шагом, не сводя глаз с цели, вобравшей и замужества, и рождения детей. И где бы он был, если бы не эта пассивно им принятая солидарность? Где-нибудь был бы. А благодарен – да. Работа была по творческим усилиям сравнимой с лузганьем семечек, и оплачивалась так же. Лучше, чем то, что он делал на стройке. С которой его выгнали. Не за «политический активизм». Поучаствовать в пикете с мордобоем против застройки Пейзажной аллеи, да выйти за компанию с антифашистами наперерез большой демонстрации «свободовцев», исключительно из приверженности равновесию, – их смели, даже не заметив; даже без мордобоя? О политике он был лучшего мнения. Но – выступить, когда разговоры в кулуарах бригады необходимо должны были уйти в песок, либо уже породить действие. Его выдвинули. А он не стал отпираться. Думал – за способность объяснять. Не убеждал, не лез ни в телекамеры, ни в камеру предварительного заключения, характером, сколько знал себя, обладал покладистым, а ум, натасканный гуманитарным образованием, открывал широкий допуск – может быть, чересчур широкий, лозунгов имел в активе меньше, чем у кого угодно. Но это была другая, лично им творимая солидарность.
Даже не глупая. Как бы он дал сам себя вывести в расход к удовлетворению обеих трущихся сторон. Потому что относились к нему хорошо. Как сказал ему, после всего и из хорошего отношения, бригадир (со стороны заказчика): ты сюда приехал революцию устраивать? Езжай к себе, там устраивай. Он счел совет справедливым, и так и поступил. Имея возможность – если бы не девушки – с явным опозданием сосредоточиться на одном, прозревая – основоположники тебе в помощь («Философско-экономические рукописи» он нащупал лет десять назад, сразу после Августина и Николая Кузанского, и был сметен открывшимся радостным цинизмом и расчетливой отвагой; вообще же был из того поколения, которое Бадью и Хомского осваивает раньше) – явную всем суть: бригада попросту не могла его себе позволить. Сперва его перевели из поваров – держать здорового мужика слишком большая роскошь (эстафету приняла жена одного из высотников – и копейка в семью), и дальше, выносливый, но не набирающий нужную скорость, он был некоторое время утюгом на ноге, обузой. Пока, худший из всех, встал «за всех» – и все от него отвернулись.
Читать дальше

![Лариса Соболева - Последнее дело молодого киллера [= Лицензия для Робин Гуда]](/books/30801/larisa-soboleva-poslednee-delo-molodogo-killera-thumb.webp)