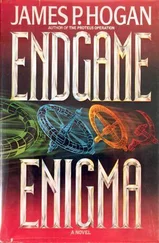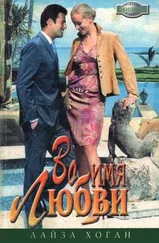Глядя в окно спальни, я довольна, что моя работа не прошла даром и сад выглядит вполне прилично, несмотря на время года. Несколько потрепанных хризантем по-прежнему добавляют яркости клумбам, и я рада, что они оранжевые – идеальный цвет для Дня Мертвых. Нам повезло, сегодня хороший день – холодный, но солнечный, – потому что мы будем жечь большой костер. Он огорожен мелкой проволочной сеткой, чтобы отпугнуть бродячих ежей, которые могут устроить здесь зимнюю квартиру. Я точно не хочу, чтобы наш костер стал погребальным, и жареная ежатина в меню тоже не планируется. А планируется много хлеба мертвых и сахарные черепа, их согласились приготовить Эдвард и Китти Мюриэль. Они недавно познакомились через Маркуса на одной из любительских постановок театрального общества и сразу сошлись на почве Майкла Бубле. Не знаю, удивляться мне или радоваться, но они быстро становятся хорошими друзьями.
Я храню вещи Габриэля в чемодане на шкафу у себя в комнате. Не фотографии, которые развешаны по всему дому, а другие вещи. Покидая пустую комнату, я толкаю лошадку в последний раз и вдруг слышу смех Габриэля – ясно, будто он здесь. Он любил лошадку. Держался за ее шею пухлыми маленькими пальчиками и качался туда-сюда. Лошадка – тезка Хайзума. В исламской традиции Хайзум был конем архангела Гавриила, белым пылающим жеребцом с крыльями, дарованным Гавриилу Богом в награду за службу. Я окрестила лошадку Хайзумом, но Габриэль называл его «Аззи».
Любимый игрушечный кролик Габриэля всегда лежит на моей кровати, и несмотря на свою любовь к пушистым мягким вещам, Хайзум никогда его не трогает. Несколько недель после смерти Габриэля я утыкалась в него лицом, пока спала, и представляла, что все еще чувствую сладкий детский запах Габриэля в его мягкой белой шерстке. Он будет на офенде , как обычно, но сегодня я хочу поставить туда кое-что еще, поэтому надо достать чемодан. Он покрыт пылью, и это печалит меня, словно живущие в нем воспоминания тоже заброшены. Но когда я с щелчком открываю металлическую застежку, подкладка чемодана оказывается яркой и чистой, как моя память о Габриэле, и свежей, будто я положила все внутрь только вчера. Хайзум пришел ко мне на второй этаж и с любопытством обнюхивает чемодан. Я ищу голубой сандалик, и Хайзум копается носом вместе со мной. Он бы очень понравился Габриэлю. Сандалик аккуратно завернут в бледно-голубую бумагу. Полиция нашла его на берегу реки в день, когда утонул мой сын.
Люди в Викторианскую эпоху часто использовали пару маленьких пустых ботиночек на могильных камнях и изображениях как символ оборвавшейся в детстве жизни, и для меня этот единственный сандалик – последнее оставшееся звено цепи любви, связавшей мать и сына и жестоко разрубленной. Это последняя реликвия и мой самый драгоценный талисман, и потому он ранит сильнее всего. Такой маленький. Умещается на ладони, не больше того убитого утенка. Мягкую кожу покрывают темные горошинки, и я вдруг осознаю, что плачу. Не вытирая слез, я захлопываю чемодан и поворачиваюсь, чтобы взять фотографию Габриэля с тумбочки возле кровати. Из всех его многочисленных фотографий эта – моя любимая. Он сидит на любимой лошадке и не просто улыбается, а смеется. Полный восторг.
Мне повезло, у меня много фотографий. Семьям детей, которых я посещаю на кладбище, вероятно, повезло куда меньше. Для них фотографии были дорогой роскошью, их заказывали лишь в случае важных этапов и событий. И смертей. Много детей умирало прежде, чем фотографа предупреждали, что их первое фото станет последним. Пост-мортем. Самым важным событием в их короткой жизни становилась смерть. Но фотография умершего ребенка все же лучше, чем полное отсутствие фотографий, потому что воспоминаний недостаточно. Образы в нашей голове ненадежны. Они меняются, тускнеют и разбиваются, как кривые отражения на бегущей воде, и однажды могут исчезнуть навсегда. Бумажное изображение надежно. Однажды я нашла такие фотографии на блошином рынке и, разумеется, купила. Продавец был рад от них избавиться.
– Жуть, – заявил он, театрально поежившись. – Просто мерзость!
Но деньги за них он взял с удовольствием. И был неправ, потому что в них есть печальная красота, и они порождены любовью. В них есть утонченная нежность, и отвращение продавца кажется бестактным и жеманным. Пытаться заставить Габриэля позировать было все равно, что преследовать бабочку. Почти все его фотографии сделаны в движении. Он всегда куда-то стремился, и удержать было невозможно. Поэтому я так люблю фото с лошадкой. У викторианских фотографов, которые специализировались на посмертных фото, таких проблем с моделями не возникало. Не было ни капризов, ни моргания. Нужно было просто приподнять тело, подложить несколько подушек и сложить руки на груди. Разложить вокруг кровати или гроба цветы, и готово. Эти дети не хулиганили и не плакали. Просто мирно полулежали, сжимая в руках любимую игрушку, прекрасные, как на картине. Иногда фотографы пытались изобразить жизни и притвориться, будто ребенок спит. Ребенка держала мать или с ним позировали маленькие братья или сестры. Но всегда понятно, что один из них мертв, потому что никто не улыбается.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу