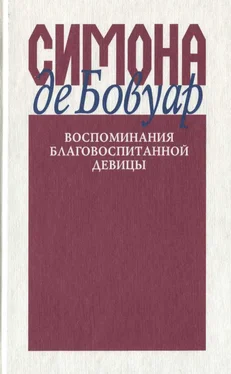Болтовня Мадлен, хоть и не оправдала наших ожиданий, все же должна была порядком нас взбудоражить, потому что мы с сестрой пустились в страшный словесный разгул. Присутствие тети Элен, доброжелательной и не склонной к нравоучениям, нисколько нас не смущало. Иногда она садилась к фортепьяно в гостиной с зачехленной мебелью и пела с нами песни 1900 года — их у нее была целая коллекция. Мы выбирали самые рискованные и распевали их с веселым озорством. «Твои белые груди слаще спелой малины — к ним приникнув губами, жадно пью молоко…» Нас очень интриговало начало этого романса: следовало ли понимать его буквально? Бывает ли, что мужчины пьют женское молоко? Является ли это любовным ритуалом? В чем не было никаких сомнений, это что куплет относился к разряду «неприличных». Мы пальцем писали слова романса на запотевшем стекле, громко декламировали его в присутствии тети Элен, засыпали ее нелепыми вопросами, давая при этом понять, что нас не проведешь. Думаю, наша беспорядочная ажитация на самом деле имела вполне определенную цель: таиться от взрослых мы не привыкли и хотели предупредить, что раскрыли их тайны, — но так как признаться в этом у нас не хватало смелости, мы демонстрировали друг перед другом свою бесшабашность; наша прямолинейность вылилась в браваду. Цели своей мы достигли. По возвращении в Париж сестра, более решительная, чем я, отважилась заговорить на эту тему с мамой: она поинтересовалась, действительно ли дети выходят из пупка. «К чему эти вопросы? — ответила мама сухо. — Вы и так все знаете». Значит, тетя Элен ей все рассказала. Испытав облегчение оттого, что первый шаг сделан, мы продолжали задавать вопросы; мама дала нам понять, что дети рождаются через анус и совершенно безболезненно. Говорила она это с отрешенным видом; на том наша беседа и кончилась; никогда больше я не задавала матери подобных вопросов, и она этой темы никогда больше не касалась.
Не помню, чтобы я долго размышляла над физиологией беременности и родов или соотносила их с собственным будущим; замужество и материнство меня не привлекали, поэтому я смотрела на них как на что-то меня не касающееся. В нескладном посвящении в таинство деторождения меня смутило другое: многие загадки так и остались неразрешенными. Какая связь, например, между столь серьезным делом, как рождение ребенка, и «неприличными» вещами? Если этой связи нет, то почему насмешливый тон Мадлен и упрямое молчание мамы заставляют предполагать обратное? Мать объясняла нехотя, в общих чертах, так и не затронув темы брака. Вопросы физиологии — такая же наука, как вращение Земли, почему нельзя было объяснить нам это доступно? Кроме того, если запрещенные книги содержали, как намекала наша кузина, одни лишь курьезные непристойности, то что в них было такого опасного? Я не могла отчетливо сформулировать эти вопросы, но они меня беспокоили. Какая опасность должна скрываться в самом теле, чтобы любой намек на него, серьезный или фривольный, представлялся рискованным.
Догадываясь, что молчание взрослых должно иметь причину, я не обвиняла их в том, что они создают проблемы из пустяков. Тем не менее я потеряла все иллюзии относительно природы этих секретов: они не открывали доступ в таинственное царство, где свет был бы ярче, а горизонт раздольней, чем в моем собственном мире. Мое разочарование вернуло миру и людям их будничность, банальность. Я поняла это не сразу, но мое уважение к старшим заметно уменьшилось.
Мне внушили, что тщеславие суетно, а мелочи ничтожны; что стыдно придавать большое значение внешнему виду и подолгу смотреться в зеркало. И все же, когда обстоятельства позволяли, я глядела на свое отражение с удовольствием. Несмотря на робость, я, как и прежде, жаждала играть видную роль. В день моего торжественного причастия я ликовала: принятие святых даров не было для меня внове, и я без зазрения совести смаковала земные радости праздника. Платье мое, одолженное у одной из кузин, ничем особенным не отличалось, зато вместо классической тюлевой шляпки в школе Дезир был узаконен венок из роз. Эта деталь означала, что я не принадлежу к толпе обыкновенных приходских детей: аббат Мартен причащал только тщательнейшим образом отобранную элиту. Более того, меня назначили от лица всех первопричастниц вновь произносить торжественные клятвы, данные за нас в день нашего крещения, согласно которым мы отрекались от сатаны, его дел и соблазнов. Тетя Маргерит устроила в мою честь праздничный завтрак, на котором я сидела во главе стола. Дома был организован полдник, и я разложила на рояле полученные мной подарки. Все меня поздравляли, я чувствовала себя красавицей. Вечером мне было жаль расставаться со своим нарядом; в утешение я на минуту переменила взгляды в пользу замужества: однажды настанет день, сказала я себе, когда в белом шелковом платье, под звуки органа, при свете свечей, я снова превращусь в королеву.
Читать дальше