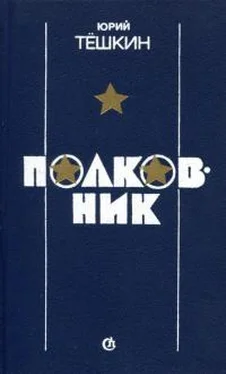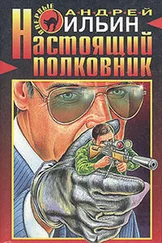Или можно было рассказать, как контузило под Фастовом, землею засыпало, одни сапоги торчат. Так и лежал много времени и уж богу душу начал потихоньку отдавать, да слышит, разглядел, видно, кто-то, что сапоги еще ничего (носить можно), — снимать начал, а тут уж и полковник, конечно, стал ногу сгибать, не даваться, это чтобы знак какой подать. Ну догадались, конечно, разрыли, в госпиталь, две недели кровь из ушей шла, из носа… А все ж пришел в себя помаленьку — все видит, слышит, понимает, вот только сказать ничего не может, и от этого такой смех его разбирает, что лопнуть можно…
Но пока полковник раздумывал о том, что бы все-таки поинтереснее им рассказать, председательствующий на вечере товарищ Мурасеев как-то очень ловко заполнил возникшую паузу собственной быстрой речью. С улыбкой, вежливо, но энергично, по шажочку, по шажочку полковника со сцены отодвинул, а следующего ветерана уже громогласно объявил, и тому, понятно, ничего другого не оставалось, как выходить и начинать свой рассказ. Ну а полковник очутился на своем месте, в третьем ряду президиума, с краю. Он понуро сидел, ругал себя, что увлекся, что спутал весь регламент вечера, неудобство всем доставил, а главное — видел ясно теперь, как скучно тем, кто в зале, как шушукаются они, переговариваются они, отпускают замечания в адрес ветеранов. Да и то ведь правда, полковник словно впервые разглядел всех сидящих с ним на сцене. Лысые, с животами или, наоборот, как вот полковник, высохшие давно, с одышками, болями в сердце, в печени, в селезенке и еще в сто одном месте, со слезящимися по пустякам глазами, кашлями, кряхтеньем, вздохами — ну что они могут являть сейчас для этих сидящих в полутемном зале: пятнадцатилетних, шестнадцатилетних, семнадцатилетних… упругих, как футбольные мячи, холодных и надежных, как моторы. Сосцами показалися полковнику ветераны — высохшими, синеватыми, сморщенными, не пригодными больше ни на что — вон ведь каких щенят вскормили! Да ведь для них для всех эти схемы боев и маршей — бумага, не более, ватман, на котором разными цветами стрелочки, кружочки… Под одним кружочком Колю Зайцева убил вражеский снайпер, под другим полегли сто девяносто четыре бойца вместе со своим командиром Приходько Михаилом Александровичем… Обелиск есть с надписью… А сколько ж принято землей без всяких обелисков! Двадцать миллионов! Ох-хо-хо… Полковнику кажется, что больше двадцати, много больше… Заволакивается взор паутиной, зал стал совсем неразличим, душновато сегодня, вокруг люстры радужный ореол.
Тут внесли знамя, все встали, ветераны один за другим подходили — целовали. Многие замирали на несколько мгновений у знамени, и полковник тоже, опустившись на колено, замер. Не оттого, что сил не было сразу встать, не оттого… От счастья… Как прижал край знамени к лицу, как прижался губами, глазами, вдохнул всей грудью, всеми последними желаниями, всей сутью уставшей… Это единственное, что нужно сейчас полковнику, — всё. И больше ни-че-го. С этим и поднялся, и пошел на место. Не говоря, не слушая, не глядя — не расплескать, не растерять ни грамма из того, чем сейчас переполнен. И тут нечаянно он в зал взглянул и поразился. Эти застывшие лица мальчиков и девочек, эта выпрямленность, неловкое напряжение, нежелание, чтобы кто-то сейчас увидел их такими, их лица, глаза. Темные, светлые, карие… через которые на минуту выглянуло то, что чище, выше, прекраснее их самих, и от этого им неловко, до того непривычно, что вот и приходится глядеть прямо перед собою. Ну конечно же они ничего не понимали ни в картах, ни в схемах, ни в горячей взволнованности полковника и других ветеранов. И знамя для них, разумеется, совсем не то что для уцелевшего воина, — все так. Но только знал теперь полковник точно, столь напряженно вглядываясь в юные лица, точно знал полковник, что крикни он сейчас, взмахнувши знаменем: «За мной! За Родину!» — ведь разом все сорвутся, бросятся за ним, почтут за счастье умереть всем вместе. Та-акие глаза! — похолодело все в душе полковника от счастья. Синие, карие, зеленые — они молили, они кричали: «Возьми! Знаменем взмахни!» Этим пробитым осколками древком, связанным трофейной проволокой, в выцветших пятнах русской крови. «Да что же это такое! — простонал он. — Что же это все такое?!» И с таким напряжением вглядывался в зал, что уже над каждой юной головкой сиял теперь неистовый ореол, то радужный, то настоящий — золотой. То опять он темным становился, почти черным, то опять сиял чистым золотом.
Читать дальше