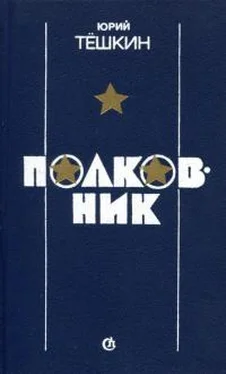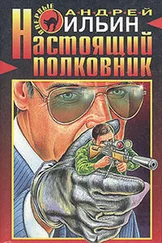Конечно же это продолжалось лишь минуту, ну пять от силы. Но это была святая минута. Причастность к этой святой минуте — в этом всё. Всё, всё, всё!
* * *
Всё, всё, всё… с этим и шел из школы по мокрым от дождя тротуарам. Теперь даже дожди торопливы. Словно взмах веера, освежают совсем ненадолго. Но потянуло уже дымком. Может, пожары уже начались за городом?
На углу то и дело открывалась дверь чайной. Полковник зашел. Тут было дымно, шумно, людно. Чего-нибудь выпить ему не хотелось. Он прислонился спиною к стене, хотел постоять просто, никому не мешая. Но уже мужчина в берете остановился напротив и показал один палец, и полковник, не сопротивляясь, спросил:
— Сколько?
Мужчина же, плечами пожав, произнес:
— Трояк.
А его товарищ уже нес от стойки три стакана, энергично стряхивая с них воду, хмуро разглядывая каждый, прежде чем поставить на стол. И потом ставил с такой сосредоточенностью, словно все оттягивал и оттягивал момент самой главной истины. А в глазах его уже было напряжение еще только будущего, наверное, завтрашнего страдания. А так-то, полковник присмотрелся, глаза были добрые, в многочисленных морщинах. Ну а тот, что в берете, деловито достал сырок из бокового кармана пиджака, подул на него, быстро разделил на три части и с облегчением произнес:
— Ну! Вздрогнем!
Уже дома, раздеваясь, думал спокойно, тепло и хорошо, что вот и все, наконец-то все… и уж больше теперь ни-че-го… Все другое будет теперь лишь оскорбительной суетою… Еще бы только Наде сказать… покойно так думалось, когда взялся за ботинок уже… да, еще бы только Наде — первой и единственной — сказать: «Прости!» — и все… Нет, снятым уже ботинком сделав в воздухе запятую, добавил:
— Прости, и… спасибо тебе за все… за Раю… да-да, за Раю — главное, пусть вырастет хорошим человеком… как мы с тобою, пусть жизнь проживет честно — всё!
Он потянулся снять второй ботинок, за дверью на лестничной площадке послышались осторожные шаги, в возбуждении за дверью произнесли несколько тревожных слов. Слов этих полковник почти и не разобрал, но, словно второй стакан водки, ударили в самое сердце. Полковник выскочил на площадку, они заканчивали уже пролет. У последнего, спиной к полковнику, под мышкою была канистра. Первый же, который был полковнику плохо виден, что-то прятал под плащом живое и просящееся на волю, обеими руками прижимал к животу. А тот, что шел между ними, жестикулировал и торопливо говорил:
— Держи, крепче держи ее, суку…
— Эй! — сказал полковник и протянул к ним руку.
Сохраняя порядок, они побежали, не оглядываясь. Четвертый, третий, второй этаж… как в лифте… Весна двадцать первого года в Поволжье, коричневом от страшного голода… кошка, пережившая многих, ползет по двору за солнцем, медленно обходящим их пустой двор… сестра Катюша ловит редких мух, чтоб покормить немного кошку… это вместо детских игр тогда… Полковник медленно догонял. За углом он настиг и вырвал канистру. Кошка вырвалась, убежала. Все шло, несмотря на скорость, как при замедленной съемке, когда видишь, как медленно-медленно переворачивается твой автомобиль, и в то же время скован — не можешь остановить это переворачивание. Так и полковник, словно бы по инерции, вырвав канистру, стукнул его по голове. Что-то вскрикнуло:
— Ой!
Или это что-то навсегда оторвалось в самом полковнике, когда он стукнул подростка по голове и тот, полуобернувшись к нему, стал оседать, превращаясь в маленького мальчика, ломаясь, покорно укладываясь у полковника в ногах. Усики мелькнули, словно бы на память. Понарошку, наверное, потому что сначала горизонтальными они были, потом голова на плечо легла — и усы вертикально встали.
— Дяденька, не надо! — задергался у полковника в руке.
Он тут почувствовал свою. Оторвал взгляд от усатенького, глядит — держит за плащ другого. Когда же это он успел его схватить? А третий, колченогий, приплясывает, вооруженный половинкой кирпича. Теперь и третьего полковник видит — вон он с той стороны клумбы, в безопасности. И еще кричит кому-то:
— Скорей, скорей! Ну скорей же!
Тут набежали, навалились, дали по уху. Кричат, кто — милицию, кто — врача, кто — мальчика убили.
— Гад! — кто-то кричит. — Дай ему еще!
Дали — не больно. Только тоскливо как-то, воздуха не хватает, тяжко… что-то объясняет полковник — не слушают. Еще дали — не больно. Попробовал вырваться — какое! Хоть плачь! Но закипело уже. Чувствует полковник, как меняется весь, всеми фибрами сразу. Уже не он, уже совсем другой. А сверху — весь тут пока, как невидимка, у них в руках еще… Хотел было сдержаться — какое там! Чувствует, разорвет изнутри, если еще хоть мгновение сдержится. Как закричит им что-то такое… про танк… про то, как кто-то там… живьем… как закричит да как рванется — слезы так сами и брызнули… Смотрит — освободился. Сам или отпустили? Смотрит — тот, который пару раз ему по уху заехал, пока другие держали, между прочим так, по-деловому заехал, словно страницу-другую перевернул, — так вот же он — перед полковником. Когда бил, полковник его даже и не заметил. А вот сейчас сразу и узнал. И еще увидел полковник, что он в одних носках, среди всех одетых он один лишь в носках одних. Но все же решительно пошел на обидчика. Тот, разумеется, задом-задом, от полковника. «Ничего, подойду, а там посмотрим».
Читать дальше