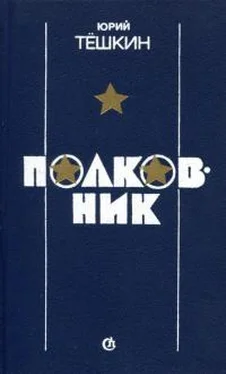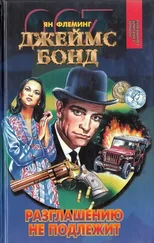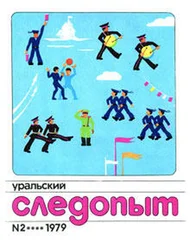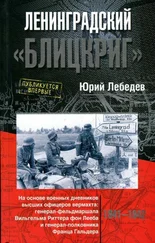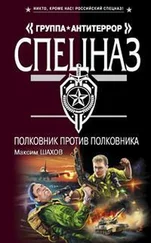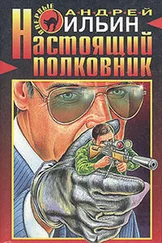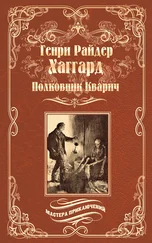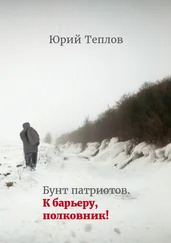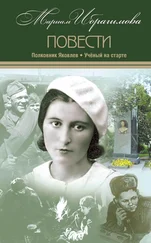Ничего, разумеется, там не существует, синий цвет это просто обман зрения, как утверждают физики. Обман, но глаза ведь действительно видят синее. Да, глаза — единственная наша связь с великим океаном, из которого мы вышли. Надо, ой как надо, чтобы это как будто всегда стояло над нами, пусть обман глаз, чувств или еще чего-то, но только надо. Чтоб было что-то выше нас, чище нас, красивее, было бы, обязательно было! Пусть как будто всего лишь, пусть, пусть. Это не страшно, это пусть, это, заигравшись, можно потихоньку и в сторонку сдвинуть, оно ж — это как будто — такое маленькое, такое незначительное — его ж легко в стороночку подвинуть, легко о нем забыть, оно что есть, что нет его. Такой уж пустячок, что сама Жадность, сама Скупость и та не откажет в таком пустячке-утешении: создать мир — как будто; озолотить, полюбить, обессмертить кого-то. Ведь это же все не по-настоящему, а как будто — это ж такой пустяк, ну пожалуйста…
Полковника и раньше поражали просто живущие люди, Нина Андреевна хотя бы: пьют, едят, на работу ходят, детей рожают, в подкидного дурачка играют, детей женят, внуков нянчат. То есть, думалось полковнику, все как-то облегченно живут, вроде б и не живут серьезной жизнью, а лишь в нее играют. А оказывается, вон оно что — чтоб жизнь текла и продолжалась, только так и надо. Надо как будто играть всего лишь в нее, а жизнь, несмотря на это, вроде б совсем и не обижается на людей — течет себе, продолжается. Именно за счет массы людей, масса-то совсем не глупа, а наоборот, здорова, здорова тем детским здоровьем, что еще много и много обещает, несмотря на все пророчества. Главное — быть частью массы! Если масса это инерция — быть частью инерции, потому что имя этой инерции — жизнь!
И вот еще что, полковник чем дряхлее, тем все более жалеет, что поддался когда-то Красивому, что возвышалось над массой и инерцией, — лукавому красивому духу. Господи, да если бы духу — душку! «Фальшивомонетчики! Идолопоклонники! — ругается он про себя, и не поймешь, кого ругает он конкретно. — Трусливые лицемеры… шлягеры-флягеры-флюгеры…» Он старается найти слово пооскорбительнее — да-да, флюгеры, ведь им все равно как думать, сегодня так, а завтра эдак. Понятно, что сами эти флюгеры ни во что святое не верят, а ловят вот таких простачков, как полковник. Особенно сейчас достается от полковника, сидящего в электричке, Бодлеру, которого любил он так раньше.
Ведь что ж этот Бодлер? Сначала воспевал революцию во Франции в 1848 году, даже журнальчик основал революционный, где писал:
«Чрезмерное увлечение формой доводит до чудовищных крайностей… исчезает понятие истинного и справедливого. Необузданная страсть к искусству есть рак, разрушающий все остальное… Я понимаю ярость иконоборцев и мусульман против икон… безумное увлечение искусством равносильно злоупотреблению умом».
То есть говорит чуть ли не языком разрушителя эстетики. И все это во имя народа, во имя революции. А что тот же Бодлер говорил двумя годами раньше, то есть до революции? Он говорил, что, когда ему случается видеть, как городовой колотит прикладом республиканца, он готов кричать:
«Бей, бей сильнее, бей его, душка-городовой… Я обожаю тебя за это битье и считаю тебя подобным верховному судие, Юпитеру. Человек, которого ты колотишь, — враг роз и благоуханий, фанатик хозяйственной утвари, это враг Ватто, враг Рафаэля, отчаянный враг роскоши, искусства и беллетристики, заядлый иконоборец, палач Венеры и Аполлона… Колоти с религиозным усердием анархиста!»
Ну а что писал тот же Бодлер в 1855 году, то есть через семь лет после революции, в которую он так усердно подпевал революционерам? Он писал, что идея прогресса просто смешна, что она служит признаком упадка. Эта идея — фонарь, распространяющий мрак на все-все вопросы знания, и кто хочет видеть ясно в истории, тот должен загасить этот коварный светильник. «Вот так-то, — с запоздалым сожалением думается полковнику, — все они как флюгеры, куда ветер дует, туда и поворачивают». А уж впечатлительны! Как истерические женщины… В общем-то, они и не продаются, а просто не способны плыть против течения, подобно бумажке, летящей по ветру, они оказываются в стане революции. Когда же восторжествует реакция, они уже находят идею прогресса смешной и уже с пеной у рта отстаивают противоположную религию… Ну а разве сегодняшние апостолы духа чем-то от Бодлера отличаются? Во все времена они на подхвате у власти, во все времена у них нос по ветру. Полковнику не хочется и думать о них, скучно. Да и времени нет. Времени совсем не осталось. А что осталось? Дверь? Да, все так и считают, что дверь… порог… но ведь все живут так, как будто это действительно всего лишь порог, за которым есть еще что-то. Ну а что там может быть? Да ничего там быть не может. А всякие как будто — так это всё для утешения… Еще лет десять тому назад и сам полковник точно так считал, что нет абсолютно ничего. Сейчас же он не то чтобы медлит перед ответом самому себе, он словно бы какую-то микроскопическую работу в душе производит. По обломкам, по осколкам в памяти собирает он все, что осталось в нем от тех необыкновенных состояний, когда врачи спасали его на самом краю. И край этот раньше лишь фигуральностью являлся, образностью, а вот с годами вспоминался осколками картин, ощущений, все более предметностью обрастал, звуками наполнялся, запахами. Уже полное воссоздание края порой захватывало полковника, ну а в последнее время — с явным упадком сил — особенно. А ведь игрой все начиналось, просто от случая к случаю вспоминалось, встречному-поперечному рассказывалось. Потом все серьезнее вспоминалось, все последовательнее. В конце концов край, на котором раз пять или шесть побывал полковник, о чем с лихостью когда-то рассказывал всем, еще там не побывавшим, теперь для него самого сделался табу, теперь и сам полковник в своих размышлениях туда проникает не ранее, чем проведет в душе микроскопическую работу — чтоб уж ни капельки, ни пылинки, ни соринки там не оставалось.
Читать дальше