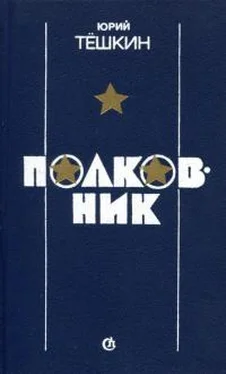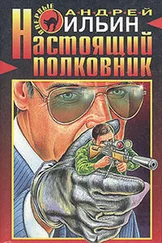В заключение хотел бы добавить, что кроме данной, лично мною проделанной работы, каждые каникулы мой сын — курсант военного училища — выступает в школе номер пятнадцать.
Услышав о сыне, полковник, сидевший до этого рассеянно, встрепенулся и тут же удивился сам себе: «А собственно, почему бы и не быть у Мурасеева сыну?» И опять пожал плечами, отгоняя навязчивое ощущение странной рассыпчатости, несомненно, витающей над этим странным человеком.
После военкомата полковник едет в «Океан». Нина Андреевна просила купить свежей рыбки, собиралась в воскресенье испечь пирог. Лучше б всего — палтус, но где сейчас тот палтус! Взял макроруса и, прихватив еще коробку мороженых креветок, домой поехал.
Пили чай с Ниной Андреевной на кухне, и слышно было, как в комнате у раскрытого окна Лариска весело переговаривалась с соседским мальчиком Валериком.
— А знаешь, Валерик, у нас сегодня в школе говорили, что Бухарин все-таки хороший.
— Не Бухарин, а Каменев хороший, он с Лениным в Разливе был, вместе скрывались от царской охранки. А Бухарин плохой, он был за расстрелы и концлагеря.
— Нет, за расстрелы — Жданов.
— И Дзержинский.
— А Жданову памятник уже хотят сносить, всё переименовывают, что с ним связано.
— Значит, будут и Дзержинскому сносить.
— Всем надо снести!
Нина Андреевна, поперхнувшись чаем, закричала:
— Да тише вы, дураки! Разве ж можно так языком-то молоть?!
— Можно, можно, баб Нина, нам в школе сказали, что теперь можно, теперь ведь у нас гласность, правда, Валерик?
— Конечно… гласность… и демократия. Мы начинаем строить это… ну, правовое государство…
— И как это вы раньше, бабуля, жили — ничего вам говорить было нельзя? Забитые, бесправные… б-р-р… жуть, правда, Валерик?
— Ага…
— Слышали? Нет, вы слышали, Павел Константинович? — сказала Нина Андреевна. — Нет, последнее время просто понять не могу, почему мне ежедневно по радио, по телевизору, в газетах, а теперь вот и внучка родная — все внушают, что я, простая женщина, прожила плохую, угнетенную жизнь, позорную даже… Что я была просто-напросто несчастная, то есть раба какая-то… Но я-то, Павел Константинович, оглядываюсь сейчас на свою жизнь прожитую и не вижу в ней ничего позорного. Мне нечего в ней стыдиться, нечего каяться. — Нина Андреевна пододвинула полковнику розетку с клубничным вареньем. — Пусть каются те, кому есть в чем. Я же всю жизнь честно работала… как и весь народ. Строили, воевали, детей растили… и-и, неужели ж мы так все поголовно и были несчастными?! Да никогда не поверю! Счастливыми были — это вот помню. Самым форменным образом. А как Чкалова встречали, помните? А как выше всех в мире наши стратостаты взлетели! А как наш Гагарин! Да что говорить! И как же обо всем этом можно сейчас позабыть? А как мы в тридцать втором за одиннадцать месяцев пустили первый в мире завод искусственного каучука? А техника какая — тачка да лопата. Да, деревня, может, и разорялась… это да… согнали нас с деревень, но ведь промышленность-то действительно вперед шагала гигантскими шагами — за одиннадцать месяцев такой гигант отгрохали! Я себе два года приписала, со взрослыми наравне работала, разве ж это у нас отнимешь! Да я, можно сказать, горжусь! У меня и медаль, Павел Константинович, есть за это. Да, я откровенно вам заявляю — горжусь. И буду гордиться! Потому что наш каучук потом в войну много пользы принес.
— Я знаю, — серьезно сказал полковник, — хороший был каучук, намного лучше, чем у немцев.
— Ну так как же после этого можно внушать, что мы несчастная, забитая страна! Да есть ли у них совесть! А потом — зачем? Зачем, Павел Константинович, внушать, что мы жизнь свою прожили плохо?
— А это затем, уважаемая Нина Андреевна, что если случится через некоторое время заметное ухудшение жизни и вы это ухудшение почувствуете, так чтоб вы не возмущались и но протестовали, потому что вам уже до этого успели вбить в голову, что жизнь вы прожили несчастную, бессмысленную, рабскую. А это ухудшение, которое вы заметили вокруг, ничего не значит в сравнении с той рабской жизнью, которой вы раньше жили. Следовательно, нечего вам теперь и возмущаться.
— Понятно, знай, сверчок, свой шесток! Но только как же мне не возмущаться, Павел Константинович! Я уже сейчас вовсю возмущаюсь…
— Ну, хватит тебе, бабуля, глупости свои высказывать! — И Лариска решительно мимо них прошла в туалет.
— Вот так, Павел Константинович! Глупости! И что же вы на это скажете?
Читать дальше