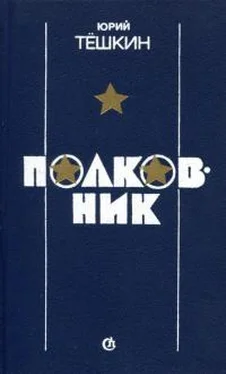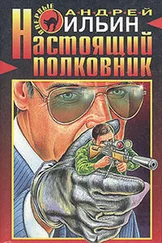За околицей деревни, в глубоком овраге, в самом конце его, была еще более глубокая яма, в детстве казавшаяся бездонной пропастью. Была завалена она корягами, камнями, заросла травой вся, мхами, мухоморами. Вечный полумрак, увеличенная изгибами глубина, переплетение корней, фосфоресцирующая мгла по углам — неисчерпаемостью, бездонностью, сырой девственностью веяло от ямы в детстве еще за десять шагов от нее. Как часто прибегал сюда он мальчишкой — Пашкой-шкетом — в горькие минуты. Посидеть полчаса в преддверии какой-то необычной жизни, в которую, несомненно, вела та яма, и то было отрадой в тяжелые минуты жизни. И вот измерили яму, необходимый кубаж песка привезли, засыпали. Недосягаемость, непостижимость к простой геометрии свели, прежний трепет стал смешон, ненужным трепетом оказался — из мальчишки вдруг тогда сразу в подростка превратился, усишки пробились, юношей стал, секретарем ячейки, стихи стал писать. Уже по отчеству величали: «Павел Константинович»… Так и эти пятидесятые странные годы — словно ровная площадка вдруг открылась — ни бездны под ногами, ни неприступности над головой. Подобно многим своим ровесникам, полковник сопротивлялся охватившему всех развенчиванию главного имени эпохи. Да, он чувствовал теперь и прежнюю тяжесть, и несвободу своего существования, и (сродни детскому) прежнее суеверие, загораживающее путь для собственного многогранного развития личности. Все так и было. И все же не спешил расстаться с прошлым наш полковник, во снах все еще было по-прежнему — тихо, надежно, — с затаенной прошлой нежностью смотрелись сны. Непривычно становилось, когда просыпался, сквозняк в самом себе, опасный крен ощущался.
Для человека, долго несшего на своих плечах тяжесть и внезапно освобожденного от нее, всегда есть опасность на первых шагах зарыться носом. Так и полковник — упирался. Но днем и ночью сонмы ртов, глаз, восклицательных знаков газетных заголовков нашептывали, орали, пели, плясали — втягивали в свой гвалт. И полковник стал потихоньку пританцовывать в этой облегченности, что обещала так много. И действительно, все большую подвижность ощущал в себе солидный к пятидесяти годам полковник. Чувства, мысли, логика — все раскачивалось, освобождалось, торжественно обретало свои права. Его и самого порой смешила неуместная в пятьдесят-то лет попытка раскрепоститься, не обращая ни на кого внимания создать свой неповторимый взгляд на жизнь — кокетство какое-то подозревалось тут. С другой стороны, в нем уже ворочалась и обида — жадное стремление наверстывать упущенное, и он завидовал своим курсантам, которые начинали с такой свободы.
После войны окончив Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова, он заведовал в это время кафедрой артиллерийского училища, вел занятия с курсантами по тактике.
И вот, стоя с длинной указкой у макета артиллерийского полигона в окружении подтянутых юных курсантов с персиковой свежестью лиц, с глазами лучистыми, чистыми, с плечами развернутыми, дыханием боксерским, блеском пуговиц слепящим, хрустом новеньких ремней морозным, — нет-нет да и замирал среди бодрой речи своей наш полковник вздрагивающим концом указки над каким-нибудь ориентиром макета артполигона: отдельным кустом, например, или красной колокольней, или заводской трубой. И стоял секунды две-три, охваченный ароматическим теплым ветром того бесконечно далекого деревенского утра, когда в шестнадцать лет тайком примерял перед зеркалом шинель постояльца — командира расквартированной в деревне части. Свежие, золотисто выскобленные половицы избы, запах мяты, котенок на подоконнике, крынка с молоком, чистое полотенце с вышивкой, солнечные зайчики повсюду, росистое утро, звонкий крик петуха — и сам он, тогда еще Пашка-шкет, с горящими пуговицами шинели, горящими глазами, топорщащийся весь, шестнадцатилетний весь еще, перед ослепительным зеркалом в овальной раме… И еще глубже, подобно солнечному зайчику, высвечивается совсем уж непримечательное утро, когда даже еще и не Пашкой-шкетом звался, а просто — Стручком. Деревянный перрон железнодорожной станции близ деревни, объявление на стене, которое он читает по складам:
«При проездах по железным дорогам, на станциях и в поездах остерегайтесь неприятельских шпионов, среди которых бывают и женщины. Всякие сведения о наших войсках они сообщают нашим врагам. Поэтому посторонние разговоры воинских чинов с незнакомыми людьми или в их присутствии могут принести неисчислимый вред русской армии. Каждый военнослужащий должен постоянно это помнить и не говорить о том, что может обнаружить расположение или передвижение русских войск и их составов. Недостаточно следить за собой, надо смотреть и за другими, удерживать товарищей от излияния откровенности. Всех неизвестных, которые будут расспрашивать вас и прислушиваться к разговору между вами, немедленно указывайте коменданту станции, жандарму или железнодорожному начальству».
Читать дальше