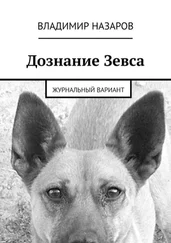Каким-то неуследимым путём на моих плечах оказался его просторный пиджак, светлый, широко открытый на груди, и все эти годы я за него держался. Конечно, он достался мне «на вырост», в прямом и переносном смысле, и это было понятно не только мне, но и пиджаку…
...Все сидят, слушают Натана, кто-то опоздал, пробрался тихонько, присел, сжавшись, чтобы не мешать, а Тоник (так его называли близкие) прерывает монолог и объясняет именно этому, вновь пришедшему: мы говорим о том-то и том-то, случилось то-то и то-то, и только включив его в общее действо, снова обращается ко всем...
«Хорошо бы написать историю дружбы в России, — мечтал Эйдельман, — это была бы, разумеется, книга с примерами из двенадцати столетий: дружба военная, общинная, монастырская, дружба в беде, счастии, странствиях, мечтаниях, дружба в труде, в семье... До XIX века, правда, совсем не нашлось бы места для столь привычной нам дружбы школьной, по той причине, что большинство вообще не училось, а дворян чаще обучали дома».
Не встречал человека, более верного школьной дружбе, чем Натан. Кажется, мы, следующие, т.е. «следом идущие», получали право войти в школьный круг как младшеклассники. Примером был, конечно, Пушкинский Лицей, и Натан так ярко писал о лицеистах потому, кажется, что видел в них собственных школьных товарищей… «Шаруль бело из кана ла садык», — «величайшее несчастье, когда нет истинного друга». Над его головой витал гений дружбы...
На одном из первых вечеров памяти Эйдельмана, в московском музее Пушкина, я назвал его гением. Здесь же меня поддержал Рассадин. Имелось в виду и то рабочее творческое содержание, какое вносил в это слово пушкинский Моцарт, и простое доказательство того, что гении могут участвовать и в нашей жизни. Мы этим словом почти не пользуемся, что, в общем-то благоразумно. И время бездарно, и слово исторически искажено. Кого смели так назвать в вечном присутствии «гения всех времён и народов»? Может быть, лучше было бы сказать об органическом «моцартианстве» Натана?.. Нет, гений и гений! У Моцарта, то бишь у Пушкина, слово имело щедрый, демократический смысл. «Как ты да я». И хотя «нас мало, избранных», но всё же — есть. Где-то рядом уже появилось грибоедовское «нас мало, да и тех нет», — реплика, которую Тынянов отдал своему романному Пушкину...
Помимо прочего, «гений» — это человек ранний, сумевший понять нечто важное раньше других и в этом смысле преждевременный. Эйдельман словно предварял будущую Россию, и, будь он жив, времени было бы трудней свихнуться... Он и спешил, понимая, что времени остаётся меньше, чем друзей, что времени — в обрез…
— Кто работал в архивах, представляет себе, сколько там нетронутого, ведь сотни тысяч листов вообще не видит никто! — говорил Натан.
Меня поражала его убеждённость в том, что он не доживёт до шестидесяти, я слышал это от него много раз. В книге о Карамзине есть место, где Натан вслед за Николаем Михайловичем подробно рассуждает об этом опасном возрасте.
В июне оказалось, что ногу всё же не спасти, и Стасика повезли в операционную. Через полтора часа после ампутации, лёжа на животе, он стал складывать сборник моих стихов и заранее перечислил, кому его дарить. Он сам предложил себя в составители. Больше сорока лет он мне помогал, «составлял», наставлял, а теперь новой книгой пытался отвлечься от боли. Об Але мы не говорили, и лишь однажды у него вырвалось: «Тоска». Я почуял, что — о ней…
Когда Рассадина привезли, наконец, домой, из неразличимых украинских областей возникла сиделка или домработница, и шаг за шагом — это звучит странно, если человек лежит и не пытается взять костыли — другой быт стал проявляться. Быт, а не жизнь.
Потом откликнулась и жизнь. Он снова стал писать и для себя, и для газеты. Родилось несколько книг, новых и переизданных. А я наладился приезжать в Москву, как только, так сразу, и рабочие необходимости были на моей стороне.
Мы усаживались на день и долгий вечер, Стасик опускал ногу с дивана, я занимал место на стуле по правую руку от него, и выпивали то осторожно, то, не оглядываясь, под разную закусь, магазинную или домашнюю, вкусно приготовленную украинской наймычкой, которая старалась стать своей…
Пили ливизовский «Дипломат» под синей этикеткой (чёрную и красную не брать) или привезённый из Пушкиногорья самогон, настоянный на кедровом орешке, сливе или иван-чае с мятой и зверобоем. Или уж, с прибытка, — виски разных сортов. Говорили о друзьях, книгах, новых и старых, и о том, как сжимается непутёвое время. Это стало традицией, а однажды, в ответ на звонок по междугородке, мол, послезавтра буду, он сказал: «Это было бы счастьем…». И я снова почувствовал себя виноватым…
Читать дальше

![Владимир Санин - Приключения Лана и Поуна. Повесть [журнальный вариант]](/books/28538/vladimir-sanin-priklyucheniya-lana-i-pouna-povest-thumb.webp)
![Владимир Митыпов - Мамонтенок Фуф [журнальный вариант]](/books/30130/vladimir-mitypov-mamontenok-fuf-zhurnalnyj-varian-thumb.webp)
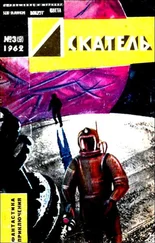

![Владимир Фирсов - Срубить крест[журнальный вариант]](/books/173679/vladimir-firsov-srubit-krest-zhurnalnyj-variant-thumb.webp)

![Владимир Рафеенко - Московский дивертисмент [журнальный вариант]](/books/182775/vladimir-rafeenko-moskovskij-divertisment-zhurnal-thumb.webp)