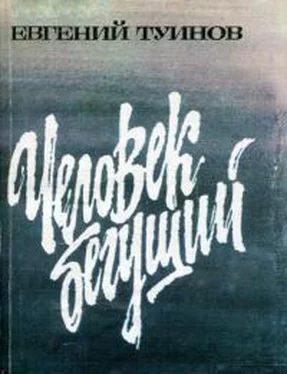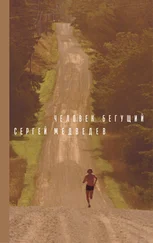— Да перестань ты! Какая, к черту, бомба, когда такое кругом!.. — горячо возражал отцу классный. — Мир рушится! Что ты мелешь, ей-богу?..
— Погоди, погоди… — Отец и слышать его не хотел. — И каждый ведь раз я думаю… Война, смерть, ненависть кругом, голод и холод, трупы штабелями и эти сто двадцать пять граммов хлеба на человека… Обстрелы, налеты — эта сторона улицы наиболее опасна! — и будто один уж закон правит миром: убить, растоптать, стереть с лица земли!..
— Лирика, лирика все это у тебя! — перебил его Андрей Владимирович. — А я-то думал, ты человек дела!..
— Да ты только представь, — гнул отец свою линию, — вся промышленность Германии и, считай, Западной Европы, как сейчас в книжках пишут, этот хорошо смазанный, отлаженный механизм с нечеловеческой, с немецкой точностью клепал, клепал свои бомбы, гранаты, свои патроны — десятки, сотни тысяч, миллионы, свои танки и самолеты, пушки, крейсера, торпеды и знаменитые шмайсеры, а где-то там, в недрах жуткого этого механизма, между валов его и шестеренок, короче, кто-то, мужественные какие-то люди, смелые, стойкие, настоящие, надо сказать, люди, — не знаю я, антифашисты уж они были немецкие или поляки, французы, словаки, работающие на бомбовых их заводах, или наши пленные, или кто? — но несли они эту кукурузу, несли в карманах своих лагерных полосатых роб, несли, наверное, тайком, под страхом, может быть, смерти, по горсти несли, по зернышку, и наносили целую бомбу, и заправили ею без всякой, значит, уверенности — откуда? — что бомба их будет сброшена на Ленинград… Хотя могли, конечно, и знать как-то, но вряд ли. Кто они были, эти великие люди? Я думаю, думаю, думаю о них. И понимаешь ли ты, что пока они есть, — а они были, есть и будут всегда! — пока бомбы, пусть одну, две, три на миллион, пока заправляет кто-то кукурузой, не взрывчаткой, а кукурузой, до тех пор мы и будем, жить, не исчезнем, не сдадимся и, может быть, победим? Мне тоже, как тебе, тревожно сейчас. Понимаешь? И мало нас, мало светлого кругом. Но эта бомба… Ты меня правильно только пойми! В принципе!..
— Ну ладно, ладно, — перебил его Андрей Владимирович. — Это все в теории, в принципе и есть, красиво все звучит, почти каратаевщина, толстовство прямо. Что же, выходит, ради одной своей бомбы с кукурузой ты и болтаешь, и шумишь по городу, по телевизору, людей баламутишь? А на практике? Спустись с высот своих заоблачных на нашу землю, на грешную. Хоть что-нибудь ты предлагаешь реальное, конкретное?
Отец почему-то молчал, долго-долго молчал, так, что Вовке вдруг почудилось, будто он там растерялся, его отец, не знает, что ответить. Да нет же, не может этого с ним быть!..
— Реальное, говоришь? — устало спросил он наконец Андрея Владимировича. — Экий ты, брат, реалист, однако… У вас там в школе плакатик, я слыхал, висит — ну, безвозмездная помощь городу, ну, металлистов скликают, панков, хмырей-хиппарей всяких, ну, блеснуть еще разок на уборке строительного мусора, так сказать, подтвердить свою лояльность, козырнуть квасным патриотизмом… Ну, висит или нет? Что молчишь-то?..
Ну, висел еще, если, конечно, не сняли, и это Вовка просигнализировал, стало быть, отцу про плакатик, ну и что? Что-то пробормотал Андрей Владимирович недовольно.
— Вот видишь! — словно обрадовался отец. — Вот и выводи в это воскресенье весь свой класс на Фонтанку. А я своих ребят подниму… Для полноты картины. А то решит еще кто-нибудь, что металлисты да хиппи — это весь наш народ. Ну ты меня понял?..
Вовка не услышал уже, что ответил отцу Андрей Владимирович. Он лежал, закинув руки за голову, и думал о себе, об отце, о маме, о бомбе, о Генке почему-то с Толиком, о войне и мире думал, обо всем и обо всех, кажется, думал он сейчас, о муках своих и сомнениях…
Зазвенел, заорал, как петух, будильник на стуле. Вовка хлопнул по нему рукой. Густым, сочным басом рявкнул в ответ незнакомый пес из прихожей. Пора было вставать, делать зарядку, умываться, завтракать, а там и бежать в школу.
1987