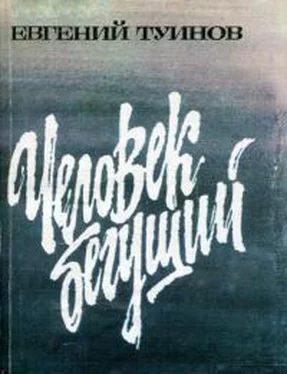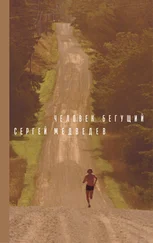Вдоль реки дул ветер. Черная вода, забранная, как пленница, в гранит, тускло воронено поблескивала, отражая желтый мутный свет фонарей на том берегу. Ветер свистел в проводах, выжимал слезу из воспаленных недавним постыдным (и Груня видел!) плачем глаз, лез под одежду, продувал, словно насквозь. Борика, кажется, знобило. Саднила покусанная, лопнувшая от натуги и обиды губа, и он то и дело зализывал ее теплым языком, скоро привыкнув к солоноватому, тошнотворному и родному привкусу собственной крови во рту. А завтра ведь в школу рано идти. Но что в школу? Что завтра? Надо еще жить, сегодняшним, затянувшимся, кошмарным, несчастным днем. А с утра светило солнце… Вот так всегда в неуютном этом, изменчивом, обманчивом городе. И будет в нем еще долгая осень с дождями, с такими вот ветрами, со штормовыми, будут наводнения. Потом зима с ее гриппозными оттепелями, с влажными, кусучими морозами. Потом затяжная, как болезнь, весна… До тепла еще жить да жить. Надо обязательно будет после выпускных экзаменов в школе махнуть на юга, куда-нибудь в Сочи или в Гагры, или в Ялту на худой конец. И одному, без предков! А что вот они, эти предки? Куда смотрят? Добиваются чего? Зачем вообще они тогда нужны, если его, единственного ребенка, если не могут защитить, оградить от этих?.. Не могут или не хотят? Ну, Дина-то ладно, она мужу верна, не перечит, она вечно занята собой — ах, кожа на лице! ах, полнею! ах, какие туфельки в чековом магазине видела! А отец, отец-то что? Или снова по своей теории, как тогда плавать учил, снова, что ли, решил кинуть его из лодки и поглазеть, что из этого получится? Выплывет ли? А вдруг утонет? Борик ненароком тронул белый упругий шрамик на левой руке, сохранившийся, как тавро, до сих пор и похожий по форме на лежащую восьмерку или на знак бесконечности. Это еще в беспамятном сопливом детстве прививал ему отец понятие «горячо» и вообще обострял, наверное, чувство опасности — вот и дал беспрепятственно, дуриком тронуть раскаленный Динин утюг. Понятие привил, прижег, отпечатал в памяти навсегда, а шрамик теперь, как узелок, чтоб если забудет, так вспомнил. Да что там шрамик какой-то! Все болячки, содранные коленки, царапины, прыщи и чирьи ему всегда ведь лечили прижиганием — одеколон, спирт, йод, зеленка — и хоть юлой потом по полу, хоть волком вой, на отца это не действовало. Система есть система… Хорошо, что сейчас не заметил отец ссадин на его ладонях, а то живо бы велел обработать, обеззаразить какой-нибудь своей любимой заразой, вроде перекиси водорода или тройного, удушливого, пахнущего детством и парикмахерской одеколона, или чистого медицинского спирта, который Дина тайком носит маленькими пузырьками с работы — за месяц ровно литр собирает, как пчелка. Ничего, он эти ссадины и так, языком залижет, он справится, выкрутится, одолеет.
— Ну, так куда теперь? — спросил Бологов.
Борик вздрогнул и удивился, обнаружив, что быстро-быстро, не обращая внимания на Груню с его грозным братом, на боль, зализывает теплым, ласковым языком ссадину на левой руке. А может, никакого наказания ему и не светит, — все же несовершеннолетний и попался серьезно первый раз! — может, отец это знает, но просто решил проучить, попугать его, чтобы впредь не зарывался? Хорошо бы, если так! Все, значит, уроки дает, все жизни учит — мол, мир жесток и груб, и никому ты, кроме себя, не нужен на этом свете, а того не существует, так что выкарабкивайся всегда сам. Ладно, спасибо, что в детстве не завел по своей жестокой теории в темный лес и не оставил там одного на съедение серому волку! А теперь-то он что, теперь он выберется, из шкуры вон, он должен, он всех их подставит, — Кису и компанию, — заложит, выдаст, продаст ни за рубль за двадцать, он за них не ответчик. Да и потом что ему эти доходяги, отбросы общества, шлак, эти наркоманы, которые и сами не сегодня завтра загнутся в каком-нибудь грязном, заплеванном, зловонном углу со шприцем в распухшей вене? А так хоть — в больнице ли, в тюрьме ли — так их еще и полечат, и продлят затухающие их, бесполезные, смердящие жизни. Или, может, ему кто из них поможет выкрутиться, возьмет вину на себя? Черта с два! Что-то не густо желающих. Все гребут под себя, на себя одеяло тянут и помнят только о себе. Все! Все!.. Отец тут прав, если честно. Вон Груню-меломана брат небось прижал, взял за глотку, так он сразу, в момент заложил его — не за понюх ведь табаку, из одного страха за жалкую свою шкуру, все забыл хорошее, паршивец, что для него делалось. Правильно! А этих молодцев, оглоедов — Генку с Толиком — слегка лишь за шкирку тряхнут, они и расколются, кучей выложат, наперегонки будут грязью его поливать, еще и понапридумывают, черти, чего не было никогда, во вкус, в раж-то войдут. Человек слаб, гнусен и мерзок, если копнуть, если вывернуть его наизнанку. Правильно говорит предок! Они его, он их. Вот и суть вся. Победит хитрейший! Так что, может, и надо, как советует отец, сказать, как на духу признаться, повиниться даже, может, в этом и кроется главная хитрость? Уж чего-чего, а такого — честности, чистосердечного признания — никто не ждет от него! Хитрый, очень он хитрый его отец, и ничего не сделает, слова не молвит без дальнего прицела, на двадцать, на тридцать ходов вперед всегда просчитает. Борик поднял воротник куртки и засунул руки в карманы. Ладони уже не так саднили — зализал ведь! Да, он им скажет, все скажет или почти все, всех выдаст, заложит, никого не пощадит. И если ему что-то положено в их взрослом раскладе, какое-то наказание, так будет это как бы явка с повинной, добровольная помощь следствию… Или как у них там называется в детективах? Короче, ему зачтется.
Читать дальше