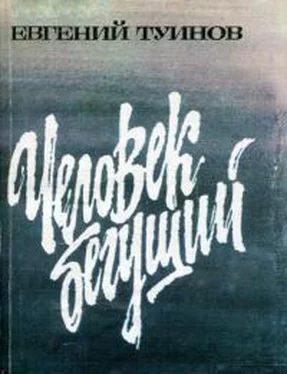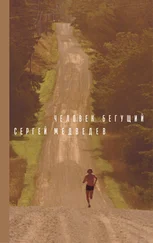Странно, что страха словно не было в нем больше. Борик прислушался к себе… Чушь! Бред! Страх, конечно, остался. Он не то чтобы притупился или отпустил его на время, нет, а скорее дальше пугаться как бы некуда было уже, дальше был тупик, стена, или ничего там дальше не было. Страх словно выбрал его целиком, вычерпал до донышка, и появилось неуютное, нездоровое, непривычное ощущение пустоты внутри. Казалось, стукнешь себя по лбу согнутым пальцем, и загудит в голове, во всем теле загудит, как в пустой, брошенной за ненадобностью, ржавой бочке из-под девяносто третьего жигулевского бензина. А почему из-под бензина? Да так уж, подумалось так почему-то, и вообще благороднее…
Он все стоял возле фасада своего дома на продуваемой лютым ветром набережной, словно не в силах был оторваться от тепла, от очага, от домашнего уюта и защищенности, от любимого мягкого кресла, наконец, что в его комнате. Эти хмыри — Бологов и Груня-меломан — переминались с ноги на ногу, но помалкивали, не лезли в душу, терпеливо ждали, куда он их поведет. Ничего, потерпят. А он уж поведет, так поведет!.. Киса со своим отребьем ни сном ведь ни духом не ведает, а над ними, над дурными их головами уже тучки нависли, молнии сверкают и слышен дальний гром… Башка ныла, не переставала. Неужели и от обиды бывает? И руки вот… Ничего-ничего, отлежится. На нем все как на собаке… И вообще он выплывет, не утонет. Выплыл же тогда, в детстве! Вряд ли Борик помнил сам, как учили его плавать, — давно же было! — но хорошо почему-то представлял себе все, по рассказам, что ли, отца. Любил предок помянуть это к случаю, сделать рекламу, так сказать, своей педагогической системе, особенно если на нового человека его выносило. И всякий раз, стоило Борику лишь услыхать или самому вспомнить, как вот теперь, сразу будто ощущения просыпались в нем — водяная тугая пробка во рту, в носу, в горле, в легких, которая никак, ну никак не выталкивалась, не выкашливалась. Он как бы видел уже зеленую, прозрачную эту воду широкой, сияющей на солнце, быстрой и сильной реки, вода тяжело и тягуче, как мед, застилала полные невыносимой жути его обезумевшие, наверное, глаза, и белые брызги, и неловкие судорожные движения свои, и отца в лодке совсем рядом будто видел сквозь воду, и страх, наверное, страх был и тогда тоже… Скорее всего это был первый его страх, если не считать страха рождения, да, первый осознанный страх, который испытал он в жизни, который как бы помнил и который самостоятельно победил или приручил, или просто перетерпел, погасил в себе со временем. Он победит и этот — дайте срок! — еще тревожащий, еще мучающий его страх. Он выплывет — сказал же! — во что бы то ни стало, приспособится и будет жить! И что сейчас? Куда вот вести их сначала? В подвал, где спрятан пакет? Или сразу уж к Кисе? Кисе звонить надо, лапшу на уши вешать… Лучше уж все по порядку, раскручивать пружину в обратную сторону. Значит, в подвал, в Санину конуру…
— Пошли! — сказал он тихо и решительно.
— Бегом! — скомандовал этот фанатик Бологов.
Зачем бегом? Опять, что ли, глупая его прихоть? Но пришлось подчиниться. И они побежали. Впереди сам этот воин-десантник, за ним он, позади Груня, как на «атасе». А насколько хватит у него сил? Борик знал, что сначала заколет в левом боку, потом сдохнет, сдаст дыхалка, потом язык станет сухим и чужим во рту, как сургучная печать. Он, может быть, больше всего на свете не любил бегать. Ну почему, почему, почему бегом? А-а-а, ясно… Наверное, этому Бологову кажется, что если бегом, то скорее, а значит, можно успеть спасти от греха какую-нибудь готовую заблудиться и пасть человечью душу. Наивный, одно слово — фанатик. Чему быть, того ведь не миновать…
* * *
Его разбудил звонок, не телефонный, нет, телефона они лишились из-за этого обмена. Звонили в дверь. Сначала интеллигентно, вежливо так, воспитанно — нажмут кнопочку и отпустят, нажмут, отпустят, а потом затрезвонили, заладили часто и нахально, будто телеграмму принесли. Вовка лежал под своей овчиной, слушал эти нервные уже трели звонка, боролся со сном, не в силах разлепить слипшиеся веки, и, как тот еще сачок, ждал, когда же отец встанет и прекратит это безобразие. Может, конечно, и вправду телеграмма. В форточку задувал с сипом и свистом холодный ветер. Но под тулупом было тепло, и никакая сила не могла его сейчас вырвать оттуда. Кто бы это мог быть среди ночи? Или с мамой что нехорошее?.. Все же Вовка заставил себя открыть глаза, и сквозь резь, выступившие слезы и свирепые, воротящие скулу набок зевки с трудом и мукой разглядел в полуметре от себя стрелки будильника, стоящего возле его раскладушки на стуле и отчаянно, бодро, прямо утренне тикающего. Было без четверти одиннадцать. А легли они, как всегда, в девять… Ну что за дела-то? Спанья от них нету! Интересно только, от кого?..
Читать дальше