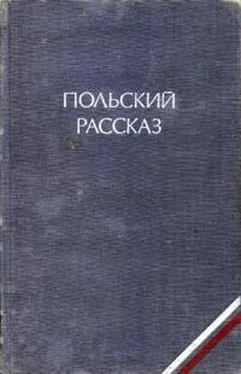— Вы небось на торжество, — прохрипел старик.
— Да. — Теперь он пригляделся к этому человеку и, кажется, узнал его; ну конечно, это старый Дроздзяк, принарядившийся по случаю воскресного дня: на нем была все та же темно-зеленая шляпа с широкими полями и костюм, лоснившийся от долгой службы, но, как всегда, торжественно черный.
— Вот приехал, и не знаю, где оно будет, — попытался он улыбнуться Дроздзяку, а получилось — в пустоту, хотя тот не мог его не узнать. Старик смотрел мимо него, ему, видно, нечего было больше сказать. Неопределенно махнув рукой, что, вероятно, означало, куда нужно идти, Дроздзяк повернулся и ушел.
А он зашагал в этом неясно указанном направлении, и его по-прежнему окружали новые дома; это был другой город, он не знал, где он и куда идет. Вдруг все чужое и незнакомое кончилось, дорогу окружили поля и перерезал ров, заваленный сеном, и тогда он уловил запах домишек, знакомых и незабытых — низких, маленьких и темных, точно прокопченных. Не глядя по сторонам, он чувствовал, что трубы неотступно следят за ним, потому что улочка бежала вдоль завода, огибая его, словно полоса укреплений, под защитой которых завод родился и рос. Навстречу попадались люди, но никто не оборачивался, не пытался заглянуть ему в лицо, как тут обычно встречали приезжих. И хотя он кожей чувствовал чье-то постоянное внимание, ни в одном из брошенных украдкой взглядов не было удивления, ни один не задержался на нем долее секунды — блеснет и тут же погаснет.
На площади уже собралось много народу — этих людей он знал; сейчас они держались с особым достоинством, вероятно, по их мнению, так подобает держаться в тех нечастых торжественных случаях, когда все, что у каждого есть личного, становится общим.
Его испугала странная тишина, какая-то всеобщая застылость, хотя играл оркестр и все новые и новые люди присоединялись к стоявшим на площади перед школой, обступая его сзади и сбоку, отрезая пути к отступлению. Ему было душно, безмолвные ряды у него за спиной смыкались, выталкивая его вперед, перед ним расступалась безликая масса, состоявшая из людей, которых нельзя было окликнуть, спросить о чем-нибудь, поздороваться. Толпа вселяла тревогу. Пока еще он не видел перед собой ничего, кроме чужих спин. И почему-то ему вдруг почудилось, что сквозь гулкую медь труб пробиваются далекие удары топора, обтесывающего столб для виселицы…
Наконец он собрался с духом и, улыбнувшись стоящей рядом с ним женщине, спросил громко, чтобы другие тоже услыхали:
— Простите, где тут Халина Жак?
Женщина не ответила, хотя вопрос расслышала, и, взмахнув ресницами, быстрым взором окинула его с ног до головы. Когда он отошел, их взгляды на мгновение снова пересеклись; ее глаза смотрели мягче, но были по-прежнему полны немого укора. К страху теперь примешалась злость. Что они, в конце концов, могут ему сделать? Он гость, его пригласили на торжественную церемонию в честь отца, чье имя должно стоять выше всех имен, дорогих этим людям. Так оно, очевидно, задумано: иначе зачем было вспоминать давно забытый страшный час и увековечивать его на каменной плите, на белом фасаде школьного здания, чтобы, кроме них, знали и помнили дети, которые сейчас поют какую-то совершенно незнакомую ему песню, то жалобную, то веселую…
Неожиданно его вынесло вперед, внутрь многорядной цепи, опоясывающей центр площади. И тогда он увидел ее, ту самую женщину, которая назвалась в письме Халиной Жак и которая, должно быть, все эти годы непрерывно за ним следила, а может, ей просто повезло и она его разыскала случайно. На ней был шикарный темно-синий костюм, обеими руками она крепко держала сумочку; ростом она была выше многих из тех, кто стоял возле мемориальной доски; то и дело резко вскидывая голову, она отбрасывала со лба спутанные ветром волосы. Он не ошибся, это была она. Почему-то, глядя на эту женщину, которая на редкость спокойно, как ему показалось, управляла торжественной церемонией, он почувствовал себя увереннее. На какую-то долю секунды их взгляды встретились; ему не хотелось отводить глаза, чтобы и ее заставить внимательнее посмотреть на него. Но хотя он был чужим здесь, в этой толпе, она равнодушно отвернулась — видимо, просто его не разглядела.
Оркестр смолк, перед школой все пришло в движение, женщина, которой он время от времени посылал испытующие взгляды, куда-то пропала, но вот появилась над толпой, на трибуне, затянутой красным, достала из сумочки, которую судорожно сжимала в руке, маленький листок бумаги и, заглядывая в него, начала говорить: «Он остался среди нас, хотя все, кто мог ему помочь, его покинули… В трудные минуты он будет служить для нас примером… Он не рвался в герои, но совершил героический поступок, выполняя свой долг… Его сын…» И тут он услышал, как стучит у него сердце, «…сын был для него всем, и он бы ему простил…»
Читать дальше