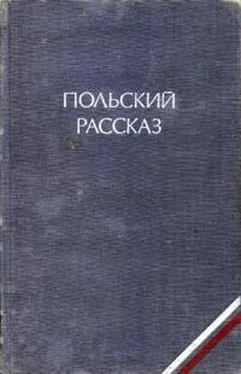Поэтому легко себе представить, какое спокойствие было у меня на душе, когда я приближался к деревне Курган. К тому же в недалекой перспективе у меня был ужин, состоящий из кислого молока и ржаного хлеба с куском белоснежного сыра, посыпанного крупной солью, а в далекой — ловля серебристых судаков в здешней реке.
Что-то во мне екнуло, когда я вошел в улицу. Деревня, в вечернее время обычно оживленная, притихла. Те, кто знал меня, на мои приветствия: «Добрый вечер, Гжеляк!»; «Добрый вечер, Владислав!», «Привет, Костек!», — отвечали серьезней, чем обычно.
Возле одной усадьбы тесной группой стояли женщины и мужчины и тихо переговаривались. Даже две маленькие девочки, стоявшие над канавой, говорили шепотом, с глазами расширенными, как будто слушали сказку про бабу-ягу. Признаюсь, проходя мимо, я с облегчением вздохнул — смерть пришла в другой дом, а не в дом Антония.
Он рассказал мне: «Принесли его с угора в покрывале. Полотно промокло, и в дорожную пыль капали капельки. Я был на двух войнах и знаю, что может быть в таком покрывале… Граната осталась тут с 1942 года, когда они шли на Россию. Ее запахали, на меже образовался бугорок. Видать, дожди слой песка смыли, но железо не обнажилось. Мальчик разжег костер на бугорке, костер из прошлогодней картофельной ботвы. Он родился уже в мирное время, что он мог знать о гранатах. Приходил ко мне в мастерскую, ему нравились стружки, скрученные в пружины. Я разрешал ему склеивать их в длинные полосы, и он их как гирлянды развешивал по забору…»
Обо всем этом рассказал мне Антоний, когда мы оба на зорьке сидели в лодке посреди реки. Вода здесь текла очень быстро, слегка ворча под бортом. Это было хорошее место на судака. В небе висел тоненький молодой месяц. Заря длинными красными полосами окрашивала плоские тучи, уходящие на восток. Рассвет занимался все ярче — он был нежным и облагораживал цвет воды, водянистую еще зелень прибрежных деревьев и травы. Высоко в небе пронеслись, каркая, вороны. Начинался день. Заблестели ослепительным блеском белые откосы каменоломни на западном берегу, и на башне монастырской часовни золотом блеснул новый флюгер.
Рыбу мне ловить не хотелось.
Антоний тоже не следил за поплавками. На реке мы оказались потому, что рыбачить договорились еще накануне, вот и все.
Одновременно с голосом монастырского колокола, зовущего к заутрене, вода принесла голос кукушки. Я заметил, что губы Антония шевелятся. Он считал. На мой вопрошающий взгляд ответил не сразу. Посмотрел на берега, на воду, на деревья, на землю, от которой шел тугой запах весенней влаги…
— Загадал, сколько будет мирных годов, — сказал он.
Перевод В. Бурича.
Вильгельм Шевчик
РЕВОЛЬВЕР
Он мчался вперед, и черный лес и зеленая вода расступались, давая дорогу; он спешил туда, хотя никто его особенно не звал, да и вряд ли кто-нибудь помнил. Кто его сейчас узнает? Тогда волосы у него были как светлое облачко; ему казалось, что ими нужно гордиться, и, хоть других это смешило, он часто поглаживал свои пышные кудри двумя пальцами в наплыве притворной нежности, не получая от этого, впрочем, никакого удовольствия… С годами волосы погрубели, стали прямыми и послушными; можно было подумать, он нацепил на голову седой прилизанный парик старого слуги из комедии масок. Все в нем с тех пор поусохло, даже сердце не смело биться громко; что горело, сгорело, а осталась горстка пепла. «Потому что я ушел, потому что я ушел», — твердил он, стараясь быть справедливым не только к себе, но и к другим — к тем, кто мог бы его узнать и, не скрывая разочарования, пристать с расспросами, как сложилась его жизнь, заурядная до неправдоподобия.
Почему, собственно, он ушел тогда? Ведь каждый стал бы им восхищаться, его влекли на пьедестал — при жизни или хоть при смерти. От него ждали всего лишь одного движения, одного слова; он должен был открыто выразить свое презрение к тем, что подняли руку на его отца, подкравшись из-за угла, бросились всем скопом, навалились на старика, точно хотели в трусливой ярости затоптать пламя, нежданно-негаданно вырвавшееся из-под земли.
Он тогда не просто ушел. Спустя годы, когда на многое, и в том числе на свою слабость, начинаешь смотреть легче, то и легче признаться, что ты ушел, нежели что сбежал. Если бы теперь он решился сказать: «Я убежал», к нему бы, возможно, отнеслись снисходительно; он имел право убежать, потому что ему все равно никого не удалось бы спасти — он мог только выразить свой протест; он имел право убежать ради сохранения хотя бы частицы того, что называется семьей, традицией, свободой. Но он так и не осмелился произнести это слово: «убежал», оно имело для него слишком прямое значение. Того, кто бежал, ждет впереди бескрайнее, полное тревог и опасностей пространство, которое нужно преодолеть. Он же ушел ради спокойной жизни — до такой степени монотонной, что в ее ленивом течении, словно в мглистом бесцветном студне, бесследно растворяется все.
Читать дальше