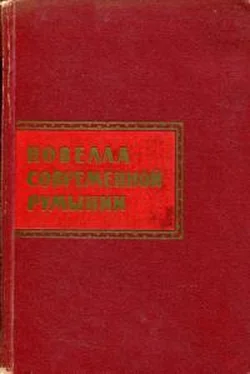— На что тебе такая уйма денег? Завтра мне нужно брать товар…
— Дело вот в чем. Ты знаешь, они все время следили за мной. Они послали сына конюха, Митру Булигу, в Буковину, в Пэтрэуць, и вчера вечером парень вернулся. Я как будто уже сказывал тебе об этом. А теперь еще новая напасть из-за моего брата. Черт бы его побрал!.. Сколько раз я тебе говорил: бросим глупости! Не место здесь… Вот и обернулось так, что я просто не знаю, как после этого ему на глаза показаться, потому он не такой человек, чтобы забыть, что… ты… понимаешь? И потом мое положение в колсельхозе… твое положение… понимаешь?
— Так чего же ты хочешь?
— Нужно, — а не то что я хочу! Нужно самое позднее завтра раздобыть дранки… — Он резанул себя ладонью по горлу. — За один день, то есть самое позднее завтра, я должен хоть из-под земли, из зеленой травы достать три воза дранки, понимаешь?
— Что ты все спрашиваешь меня? Понимаю, как тут не понять! Что с Пэтрэуцану? Что он натворил?
— Я тоже о нем подумываю. В начале лета я дал ему в задаток небольшие деньги… Он пообещался поехать в Буковину и привезти дранку… Боюсь, что он ничегошеньки не сделал… Я дал ему маловато денег, всего тысячу лей… Не мог больше, потому как пришлось дать тебе: ведь ты свою лавку открывал… Ну, а теперь мне надо вложить все обратно, потому мне и потребовались деньги. Ежели завтра вечером я привезу дранку, все будет в порядке. Хотя бы один-два воза…
После паузы он задумчиво добавил:
— И с братом я помирюсь… Только одно: он не должен знать, что я с тобой вожусь. Слышишь?
— Могила! — моргнул Георге Котун и презрительно сжал губы. У него были тонкие губы и маленькие глазки хищника. Михай хорошо знал его. Что попадало ему в руки, уже не ускользало от него. Так случилось, в сущности, и с Михаем. Котун был чертовски хитер, ум у него был остер как бритва, и Михай немного его побаивался. Котун наложил лапу на Михая с тех пор, как дал ему землю, и держал его в своих когтях цепко, как волк, который, схватив овцу за горло, больше не выпускает ее. Михай был человек слабый. На своем пути он наткнулся на кремень — и сломался. Вот как обстояло дело. И теперь бывший управляющий, человек, у которого рыльце в пуху, на деньги, врученные ему весной Михаем Хуцуля, деньги, взятые из колсельхоза, — открыл лавочку на Главной улице, в непригодном сарае, еле державшемся на подпорках.
В окне его лавчонки, не из лучших и не из худших в этих краях, грязном, пыльном, засиженном мухами окне, можно было увидеть всевозможные заманчивые вещи, сверкающие и красивые: цветные ленты, тесьму, платки с кружевом и монограммами, оставшиеся от бывшего хозяина, латунные, никелевые и даже серебряные кольца для утонченных людей, дешевые брошки (пять лей за штуку), перочинные ножи в виде рыб, глиняных уток, старинные продырявленные монеты времен короля Фердинанда, выставленные для украшения. Это было «сущие пустяки, — говаривал он. — Выручки с этого товара еле-еле на хлеб хватит. Главное-то внутри». И в самом деле, там наряду, со всякими деликатесами можно было получить «свежее маслице», «сметанку», в которую подболтали пшеничной муки (мало кто замечает), «яички тепленькие» («только что принес парнишка»), «овечий сырочек, смушки, пудреницы, сукно, рубашки, нейлоновые чулки (привезенные прямо из Америки)» и многое другое. Котун приезжает раз или два в неделю в село и заворачивает в кооператив. Продавец вручает ему «деликатесы». Котун платит честно, затем достает из грязного, перевязанного бечевкой портфеля бутылки с цуйкой и ликером, закуску, и начинается выпивка. Он привозит с собой из города белокурую девицу — «живой товар». «Барышня воспитанная, из хорошей семьи, — говорит он. — Пальчики оближешь». Позднее Михай узнал, что она в некотором роде «племянница бывшего барина». Этот торговец деликатесами и душами раздобыл Михаю вдову вахмистра. Котун привел ее к нему, и баба, прилипчивая как мед, присосалась к его сердцу и сосет как пиявка. Сначала он держал ее на расстоянии. Было стыдно. Он вспоминал о Руксандре и думал о детях… Но мало-помалу похоть и вожделение заглушили голос совести. В один прекрасный вечер на попойке, устроенной торговцем, когда алкоголь сделал свое дело, все полетело к черту, и Михай бросился в горячие объятия Марии, ласкавшей с одинаковым пылом и крестьян-пастухов, и подростков, и немецких офицеров, и пропахших потом солдат. Мария так крепко обхватила Михая, что он никак не может вырваться из ее объятий, да и не хочет. Женой он уже пресытился, а Мария все время разжигает его страсть. По утрам, когда он приходит в себя после разнузданных любовных утех и протрезвляется, его охватывает стыд. Но угрызения совести быстро проходят. Стоило ему ступить в это болото, как он начал увязать, а когда пытался из него выбраться, то еще глубже погружался в трясину. Топь оказалась бездонной, и Михай в странном ослеплении лез все дальше, словно желая изведать всю ее глубину. Теперь ему нравилось это. Он свыкся. В последнее время им овладевало отвращение, лишь когда он думал о том, что мог бы жить по-другому, что существует и другая жизнь, честная, незапятнанная, какую ведут его брат Ион и Руксандра, когда он вспоминал о детях.
Читать дальше