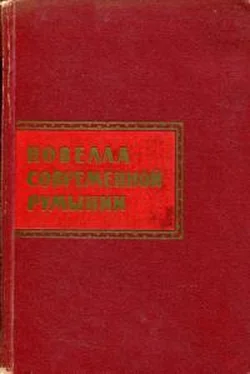Когда пришел почтальон и принес деньги от Алеку, — отец взял их нехотя. Он направился было к корчме, чтобы пропить их, но потом раздумал и спрятал в кошелек, оставив на разные нужды. Как-то раз, проснувшись среди ночи, я почувствовал, что душа моя словно омертвела. Император ушел куда-то в тень, в забвение. Я упрекал себя, меня терзала совесть за то, что я не жалею его, как раньше, но пыл души ослабевал. Речь моя становилась спокойной. Я уже не отгонял криками коршунов; ничьи страдания меня не трогали. К нам часто заходили такие же, как отец, бедняки, вещи которых пошли в уплату за долги. Они говорили тихо, и я понял, что их с отцом сближало, как братьев, одинаковое страдание. Я повзрослел раньше времени и не играл больше с детьми, а больше сидел среди стариков на завалинке под навесом. Чаще всего это бывало, когда хлестали дожди.
Мало-помалу между мной и Императором время воздвигло гору забвения. Ивовый лук, тростниковые стрелы, глиняные свистки, петушки из жести — все это я раздарил другим ребятишкам. Теперь мне хотелось заполучить нож в ножнах, такой, какой носят взрослые парни. Почему?! Да потому, что я чувствовал где-то близко от себя опасность, от которой я должен защищаться. Да, есть что припомнить! Приходил к нам Траке Дулуман, в большой шляпе и с длинными космами; приходил Иле из-под Фундойи, человек маленького роста, с носом, похожим на фасоль; приходил кузнец Гаврилуц и звонарь Митрой.
Все они усаживались на завалинке, под навесом, и молча, нахмурив брови, наблюдали за нескончаемой игрой водяных пузырьков. Вздыхали в тишине. Немного погодя Траке Дулуман говорил:
— А ну, старики, споем-ка песню!
Гаврилуц медленно проводил рукой по усам; в голубых глазах Иле из-под Фундойи вспыхивала улыбка. А Митрой смотрел вдаль, сквозь сетку дождя, туда, где, казалось, слышался звон колоколов. Помнится, как только Траке Дулуман расстегивал свой зипун, я вздрагивал, словно ожидая появления чего-то чудесного. А он доставал длинную медную дудку и говорил хлопотавшей в сенях матери:
— Принеси-ка, Розалия, горшочек рассола, я промочу ей сердцевину и мундштук.
И стоило ему только налить в горлышко дудки немного кислого рассола, как у нас под навесом начинали звучать такие песни, что я удивлялся, почему камни не плачут! Нежно вздыхала тростниковая цевница Иле из-под Фундойи; печально звучала ореховая свирелька кузнеца, между тем как длинная дудка Дулумана рыдала тягучим густым голосом. А старики все смотрели на непрекращающийся бег водяных пузырьков, неотступно преследуемые мучительными видениями: налоги, их сборщики, жандармы, барские управляющие… все они выплывали перед ними из мрака… Они выплывали… и тогда голос дудки Траке Дулумана вдруг обрывался и потом снова звучал, требуя мщения. Я понимал и любил этих стариков, друзей нашего дома. Я встревал в их разговоры, высказывал, как взрослый, свои мысли. Они никогда не отталкивали меня.
Так прошло еще несколько дней. Однажды я лег очень поздно. Дождь прошел, и я, устроившись на завалинке, на обычном месте, заснул как убитый. Во сне мне почудилось теплое дыхание. Я не решался открыть глаза. Казалось, голос отца говорил мне: «Эй, эй!.. Вставай, бездельник! Разве не видишь, как он ищет тебя мордой? Не чувствуешь?» — «Замолчи…» — отвечал я, готовый уткнуться лицом в подушку. «Просыпайся, сынок! Угадай, кого увидишь, когда откроешь глаза?» — казалось, говорила мать. «Ну, что ты мучаешь меня понапрасну?..» Разве можно было поверить в чудо?
Мне вспоминается, будто я открыл глаза и не мог выговорить ни слова. Рядом, наклонив надо мною морду, стоял Император. Я видел неуверенно смеющуюся мать и суровое лицо отца, который говорил: «Теперь только попробуй они взять его! Схвачу топор — и на них!»
— Что любит больше всего наш Император? Не знаешь ты, что ли? Ну, что стоишь, как бездельник! — прикрикнула на меня мать. Она то смеялась, то принималась жалобно причитать, глядя на пламенеющую зарю. — Разве ты не знаешь, что он любит больше всего?.. Ковыль, дикий трилистник, люцерну! Ну, беги принеси ему живей!
Пока рассуждали о том, какая трава больше всего нравится Императору, я притащил ему все, что только мог. Вся завалинка была покрыта разными травами. Но лошадь стояла неподвижно. В глазах у нее застыл ужас, и она пряла ушами, точно прислушиваясь к отдаленному шуму погони. Только теперь отец и мать заметили, через какие ужасные испытания прошел наш Император: ссадины на груди, свежие царапины на всем теле свидетельствовали о том, что он продирался сквозь ограды из колючей проволоки, перескакивал через потоки, падал в овраги. Иначе он не стоял бы сейчас так, на трех ногах. На шее у него болтался обрывок веревки. Слушая частое дыхание лошади, я представлял себе, как она скачет по деревенским улицам, по широким шоссе, перепрыгивает через заборы и мчится все вперед и вперед, направляясь к нашему двору… Услыхав шум на дворе, Император навострил уши, словно собираясь убежать и спрятаться в укромном убежище. Он весь дрожал. Я отвел лошадь в сарай, на старое место; она рухнула на землю, и я прикрыл ее сермягой. Известие о том, что Император вернулся, быстро облетело все село. И надо было только видеть, как все радовались!! Первым пришел Траке Дулуман, за ним Иле из-под Фундойи. Пришел и кузнец Гаврилуц, он растроганно смеялся, обещая Императору, если тот поправится, выковать четыре медных подковы. Он осмотрел его копыта и озабоченно сказал:
Читать дальше