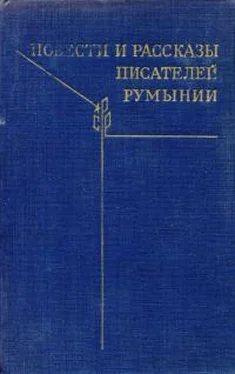— Переломов нет?
— Нет.
— Ну тогда порядок.
Он достал со шкафа бутылку с коньяком, отхлебнул, затем придвинул стул к моей постели.
— Не садись, — сказал я. — Скоро пойдут машины. Останови какую-нибудь и передай Панаитеску, что сегодня я не выйду на работу.
Минут через десять пошла первая машина, урча, остановилась перед домом, затем двинулась дальше. «Наверное, воздух сейчас чистый, влажный от росы, — подумал я. — Пыль еще не поднялась». Вернувшись, Коша сердито бросил:
— Продрог весь… Что мы читаем в поваренной книге? Берем мотоцикл, сажаем на него олуха… Я передал Панаитеску: если необходимо, я выйду вместо тебя. Что тебе нужно? Принести лекарства?
— Ступай лучше спать.
— Нет. Если я усну, а с тобой, скажем, случится припадок, понапрасну будешь стучать в стену. Я очень крепко сплю. Лучше я лягу здесь, рядом с тобой. Если что понадобится, толкни в бок.
Я подвинулся к стенке, Коша лег рядом и моментально уснул. Мрак рассеивался, первые лучи солнца уже вонзились в забор. «Хоть бы раз мне побыть рядом с ней, когда она просыпается, — думал я. — Поймать ее мутный со сна, блуждающий взгляд, когда она откроет глаза. Только раз вдохнуть бы ночное тепло ее кожи». Теперь это стало первой моей мыслью по утрам. Я знал, что тут ничего не поделаешь. Знал также, что, доведись мне начать все сначала, я и тогда не избрал бы иного пути. Я захотел бы снова пережить все: ту дождливую ночь и день, проведенный в лесу, долгие разговоры через накаленный солнцем забор, те минуты, что мы были одни в моей комнате, страдания, боль — все, все я пережил бы снова и точно так же. И в следующий раз, когда поеду по мосту, опять сорву листок ивы, разотру в ладони и поведу мотоцикл одной рукой, до самой буровой вышки, где даже после заката веет теплом от жухлой, вытоптанной травы.
Перевод с венгерского Т. Воронкиной.
Константин Цою
ВОСКРЕСЕНЬЕ НЕМЫХ
В К. я приехал, как обычно, утром, в 7.40. Поезд, битком набитый в будни, в воскресенье был почти пуст — одно удовольствие. Проводники, с которыми я подружился за время воскресных наездов в К., рассказывали мне, что слышали от своего начальника, будто в Швейцарии поезда именно так и ходят «пустые, без пассажиров».
Я переходил из вагона в вагон по пустым коридорам, здоровался с проводниками. Билетов у меня не проверяли — но всегда спрашивали: «Опять сверхурочная работа? Ну и жизнь — по воскресеньям приходится вкалывать». Наконец мне удавалось остаться одному, я тут же опускал окно и принимался разглядывать голые, унылые холмы Добруджи, а в хорошую погоду, когда все окна были открыты и занавески бились на ветру, я вдруг начинал довольно фальшиво напевать песню, которая пришла к нам после войны: «Эх, дороги…»
Море я ловил взглядом издалека, на повороте, когда поезд, замедляя ход, словно погружался по самую крышу в длинное, узкое ущелье с отвесными земляными склонами. Больше всего мне нравилось, как перекликались в тумане короткими приглушенными вздохами сирены маяков.
…Через какие-нибудь четверть часа я уже стучал в дверь Титании. Обычно я приезжал спозаранку: следующий поезд отправлялся только в обеденное время, а это уже не имело смысла. Чаще всего я заставал Титанию спящей. Она открывала мне дверь растрепанная, прикрывая рукой зевок, и я входил в тесную комнатенку на втором этаже бывшего Морского банка, в ее каморку, похожую на мастерскую модистки-надомницы. Одно время она делала даже парики, но потом перестала. «До чего отвратительны эти парики, — говорила она, — напоминают о смерти». Она делала шляпы, абажуры и «думочки-фантази», для которых у нее был заготовлен целый склад пуха и пера. Пух и перо доставляли мне много хлопот. В любую минуту они могли выдать меня с головой. Пух означал подушку, подушка — постель, ну а постель — дело ясное. Тут уж не трудно докопаться до истины. Тем более что женщины в этих вопросах гораздо проницательнее нас. Сначала Пия станет долго разглядывать что-то невидимое, а потом посмотрит мне в глаза:
— Откуда на тебе этот пух? — И я заранее холодел, явственно слыша ее интонацию. На всякий случай дома я распорол угол подушки, чтобы всегда иметь алиби. Аккуратная Пия, обнаружив злополучный источник распространения пуха, который уже начал летать по спальне, немедленно зашила подушку, ругая плохое качество изделия.
Больше подушки я пороть не стал — это было бы подозрительно, так что пушинки напрочь исчезли из нашего дома, тем более что Пия была маниакально чистоплотна и не уставала все убирать и протирать. Титания, напротив, была женщиной на редкость неорганизованной, зато ухоженной и элегантной, я бы даже сказал, вызывающе элегантной, какими становятся к тридцати годам одинокие, избалованные и эгоистичные красотки, занятые исключительно своими туалетами. Они умирают разодетые и украшенные лентами — это все, что я запомнил из «Человеческой комедии». Думаю, что так должна была бы умереть и Титания: куколка посреди немыслимого беспорядка. А мне это нравилось. Но то, что нравилось мне в Титании, в Пии только раздражало бы.
Читать дальше