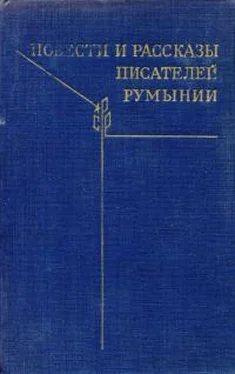— Я здесь.
Наше объятие было точно взрыв, и ни один из нас еще не знал, что погибло, а что уцелело после него. Мы долго лежали неподвижно. Голова Кати покоилась на моем плече, я касался губами ее волос, и ароматом их была напоена каждая моя клеточка. С другими женщинами в такие минуты я ощущал мучительное отчуждение. Сейчас я испытывал только счастье. И не знал, смею ли быть счастливым. Над нашими головами размеренно тикал будильник, в окно по-прежнему бил свет, и чудилось, в тишине я слышу, как трещат под напором солнца оконные стекла, и вижу вздувшуюся парусом занавеску, хотя даже не смотрел в ту сторону. Мысли мои были под стать чувствам. Кати всем телом приникла ко мне, и я подумал, что мы стали одним существом. Но и это было не мыслью, а скорее чем-то, что помогало мне отгонять мысли. Кати взяла мою руку и, перебирая пальцы, каждый по очереди целовала, чуть слышно шепча: «Здравствуй, безымянный, здравствуй мизинец…» Ей, видимо, тоже не хотелось сейчас думать. Тогда я, не меняя позы, оглядел комнату — собственно говоря, мне уже несколько минут хотелось оглядеться, увидеть, какой теперь стала моя комната. В ее стенах мягко ютился сумрак, полный беспокойных коричневатых тонов, ровно прогретый зноем; только на столе снежным островком белело платье. Оно лежало далеко, и я не мог дотянуться до него, чтобы укрыть им лицо. На шкафу виднелось какое-то серое пятно, наверное этикетка коньячной бутылки, а на ковре прикорнули две маленькие туфельки. Внезапно меня охватила жалость ко всем, кто не знает, какое это счастье — держать в ладонях такие вот маленькие туфельки. Кати чуть слышно спросила:
— Как же теперь?
Касаясь губами ее волос, я ответил:
— Я на все готов ради тебя.
Я снова привлек ее к себе, и больше мы не сказали друг другу ни слова. Я только смотрел и смотрел в ее глаза, блестящие от слез, широко раскрытые; казалось, их зрачки вбирают в себя крохотные отражения моего лица. Я чувствовал, как их огонь меня очищает.
Когда она вышла на террасу и я вслед за ней, уже близился вечер. Раскаленный солнечный диск лежал на вершине холма, как раз там, где по ночам горели прожекторы химкомбината; маленький трактор, передвигаясь по гребню холма, пропал в клокочущем зареве солнца и вынырнул из него, словно торопливо убегающий черный жук. Забор отбрасывал широкую тень, по его верху и в щелях между досками струилось расплавленное золото заката. Воздух был жарким и едким от висевшей в нем пыли.
Кати с любопытством первооткрывателя осмотрелась по сторонам, на ее подрагивающих, будто припухших губах играла выжидательная улыбка; она искала объяснение своему счастью — на голом дворе, на склоне холма или вверху, в графитно-сером небе. А может быть, хотела передать свое счастье окружающему ее миру. Потом она глубоко вздохнула, поправила волосы, тронула мою руку, лежавшую на перилах, и молча сошла по ступенькам. Не торопясь, спокойно прошла она через двор, обогнула колодец, раздвинула доски в заборе, и, когда из тени вышла на свет, ее волосы и платье словно вспыхнули. У самой двери своего дома она обернулась и как будто улыбнулась мне. Я не мог разглядеть ее лица, потому что террасу закрывала тень, но мне хотелось, чтобы она улыбнулась. Холодная тоска медленно коснулась моих губ, глаз, лба… Между нами по-прежнему был забор. И я стоял неподвижно, пока на нем не погасли последние полоски света и тень от соседнего дома не доползла до меня.
Каждый день, вися на заборе, я не отрывал глаз от террасы соседнего дома. Пятнадцать минут я разрешал себе ждать, не больше. Пока я стоял эти четверть часа на кирпичах, солнце немилосердно било в глаза и, если ветер дул со стороны дороги, меня часто обдавало пылью, которая какое-то время держалась в воздухе и потом нехотя оседала на землю.
Прождав четверть часа, измученный, усталый, потерянный, я возвращался в комнату, и руки дрожали, когда я наливал себе коньяку.
На четвертый день, когда я прождал минут семь-восемь, открылась дверь и появилась Кати. За ней на террасу вышел Печи. Он был в белой рубашке и небрежно нес сумочку Кати. Он поздоровался со мной, я кивнул в ответ. Кати не смотрела в мою сторону. Под руку вышли они на улицу. Все это время меня не покидало ощущение, будто я вижу дурной сон. И ощущение это было настолько сильным, что я прождал, как обычно, ровно пятнадцать минут и только потом сошел с кирпичей. Теперь я не торопился домой после работы, слонялся по комбинату, заходил в столовую, в душевую. После обеда опять возвращался на работу, помогал Коше. И ухитрялся разговаривать с ним так, словно ничего не произошло. Не думаю, чтобы кому-то удалось подметить во мне перемену. Страдание затаилось глубоко, и близость людей, жесткий ритм работы словно заталкивали его еще глубже. Я мог работать, и, видимо, это меня спасало. Но в конце концов приходилось идти домой, и всегда выкраивались свободные пятнадцать минут, чтобы постоять у забора. Одному.
Читать дальше