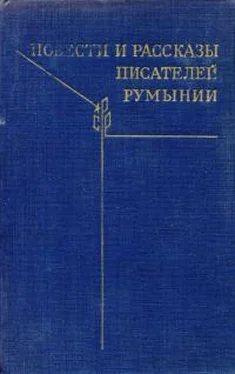Я отыскал в сарае несколько целых кирпичей. Выбрал два и уложил один на другой около самого забора.
— Что это вы вдруг выросли? — спросила Кати. — Встали на что-нибудь?
— Да. Подложил два кирпича.
— Два кирпича, — испуганно повторила Кати. — Но из-за меня… Я уж боюсь выходить во двор.
— Если хотите, я не стану вам мешать.
— Мешать? Напротив. Я только подумала, что из-за меня не стоит терять время. У вас наверняка много дел.
— Много, но я с ними управлюсь. Стоять здесь совсем неплохо, а теперь еще и удобно. Вот, смотрите: я облокачиваюсь — и прямо как в ложе.
— А мне как-то странно смотреть на вас снизу.
Скорей, должно было показаться странным, что я вообще здесь стою. По шоссе непрерывным потоком шли машины, и сквозь их грохот мы едва слышали друг друга. Разговаривали мы, наверное, минут двадцать, но вчерашнее настроение не возвращалось, видимо, из-за шума. В конце концов мы простились, ни словом не обмолвившись насчет того, что, когда захотим, снова сможем поговорить вот так, через забор. Но вероятно, оба думали об этом.
На следующий день я довольно поздно вернулся с работы, затолкал мотоцикл в сарай, умылся и сразу же направился во двор; что-то слишком рано появилась у меня; эта привычка. Как только я взобрался на кирпичи, Кати появилась на террасе. «Значит, наблюдала из окна, — подумал я. — Ждала». Мне припомнилось, как с утра велел Юци, чтобы днем она натаскала дров в комнату ко мне и к Коше, припасла растопку, а затоплю я сам, когда пожелаю. Тогда я еще сам не понимал, зачем мне это понадобилось, но сейчас сомнений не было: я не хотел, чтобы Юци проходила мимо нас.
Кати сошла с террасы, за ее мятое синее платье тотчас ухватился ветер. Посередине двора в слякоти ранних оттепелей мокли посеревшие стебли укропа; видимо, в первый год здесь все-таки пытались разбить какие-то грядки. Кати приближалась, как обычно, будто ее никто не ждал: с опущенными руками, вяло и нерешительно. На светлых, давно не чищенных туфлях по-прежнему присохшая грязь.
Едва я повернул голову, чтобы бросить взгляд на калитку, как коротко стриженные белокурые волосы оказались у моего лица.
— Что это? — удивился я.
— Ящик из-под минеральной воды, — торжествующе ответила Кати. — Я поставила его еще днем. А вы и не заметили?
— У меня не было возможности…
Вблизи лицо ее выглядело не белым, а каким-то лишенным красок, что ли. Под глазами от постоянных внутренних мук залегли тени. Голос ее при последних словах вновь зазвучал неуверенно; она все еще не могла избавиться от страха, что я сию минуту спрыгну с кирпичей и поверну к дому, бросив ее у забора. Я улыбнулся ей, но меня неотступно терзала мысль: «Господи, во второй раз я встречаю ее совершенно сломленной и опять не в силах ей помочь».
— Сегодня как будто бы не так холодно, — заговорил я.
— Да, ветер повернул в другую сторону. Сейчас он дует от вас.
— Передвиньтесь чуть вправо, тогда я вас заслоню.
— Вам не на что будет опереться.
— Не беда.
Я снял локти с забора, Кати ухватилась за верхнюю доску и с робким ожиданием посмотрела на меня.
— Почему вы так смотрите? — спросил я.
Кати ответила лишь после долгой паузы:
— Я не знаю, как я смотрела. Вы можете мне сказать?
— Если не знаете, значит, неважно.
Я почувствовал, как меня душит ярость, словно меня самого несправедливо лишили чего-то. Позади, у колодца, ветер раскачивал висящее на короткой цепочке ведро, иногда оно ударялось о сруб, и глухое позвякивание тотчас уносил тугой ветер. «Если б она показала мне облака, — думал я, — я вмиг согласился бы, что вон то облачко походит на слона. Но ей уже не околдовать меня одним движением пальца. Никого она больше не может околдовать — утратила свое волшебство. И это не закономерно и не естественно. Естественнее было бы, если б она легко, с беспечным смехом скользила по жизни и уважение и чистота неизменно сопутствовали ей. Она рождена, чтобы сделать кого-то счастливым. Но не для того, чтобы уныло брести сквозь уходящее время и медленно, неотвратимо терять все, что было в ней хорошего». Я взглянул ей в глаза; взгляд испуганного зверька снова пронзил меня, как укол иглы. Внезапно я подумал, что моя жизнь, над которой я никогда не размышлял, должно быть, прекрасна, потому что я никогда и ни на кого не смотрел так. Мои боль и муки были совсем иного рода — естественные, человеческие: я знал, во имя и ради чего я переношу их.
И было очень обидно, что моя жизнь прекрасна, а ее — нет. Ведь, кажется, мы одновременно отправились навстречу жизни восемь лет назад от сумрачных деревьев фазанника, мимо опустевших вольер с едким запахом ржавчины. С того самого дня я считал себя взрослым, потому что познал страдание. Мы отправились одновременно, но не вместе. И куда нас прибило?
Читать дальше