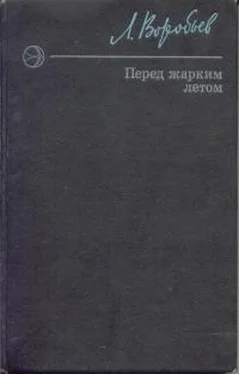— А-а-а! — Водилов побежал рядом. — Руки умываете! Знаю, знаю, простому человеку в клинику вашу — сквозь игольное ушко. Нн-о, я-а тоже не без зубов. Да я вас замучаю, по инстанциям затаскаю, Ан-натолий Калинникович. В-вы у меня попрыгаете. Писателей, художников всяких к себе, а младенца беспомощного — на свалку? А-ах ты, князь науки!
Косырев вмиг обернулся. Водилов приспоткнулся в двух шагах, тяжело дыша.
— А ну-ка, марш! Не то — в вытрезвитель.
Водилов согнулся, будто к прыжку, но прищелкнул пальцами, выдохнул «а-ах» и побежал, нахлобучив шапку, вспять.
Из-за углового корпуса, где жил Косырев, дул ветер. Роза ветров вокруг огромного здания. Ветер с запада, пустынный, бесчеловечный...
Самому-то не надо «злеть», нельзя. Косырев повернул обратно. Водилова не было видно. Он пошел дальше, и на полукруглой скамье, скрытой прутьями кустарника, увидел скорченное тело, поднятый воротник, рифление ботинок в кирпичной крошке. Водилов лежал, отвернувшись от мира, и Косырев сердцем почувствовал, что с ним происходит. Ребенок и вовсе был ни при чем...
— Эй, вы, жалобщик!
Водилов подскочил мячиком, на глазах были слезы. Надвинул сбившуюся ушанку.
— Испугался я. Очень. Когда сможете привезти?
— О-о-х, — выдохнул Водилов. — Через два денька жена примчит.
— В клинике найдете Юрия Павловича — запомнили сполупьяну? — и скажете, я просил посмотреть. Буду оперировать. В детской, разумеется, клинике.
Водилов захлюпал, вытираясь бороденкой. Косырев зашагал домой. Но за углом тот нагнал и сунул целлофан с гвоздичками.
У подъезда блестели новенькие «Жигули». Его остановил вахтер.
— А вас тут спрашивал один. Толокся-толокся... — вахтер поднял мохнатые брови над добрым своим, ноздреватым как пемза лицом. — Ну, такой... С портфелем. А потом еще двое.
Косырев удивился: кто бы.
3
Войлочный коврик сиротливо валялся у двери. Он сполоснул запыленную вазу и поставил в нее вынутые из хрустнувшего целлофана махровые гвоздики. В полусвете из прихожей они загорелись люминесцентными маячками, один выше другого. Где же Нетупский?
Хрустнул всеми суставами. Из ванны вышел взбодренный. Непрерывный звонок в дверь. Ну-ну. На площадке было темновато, у плафона с незапамятных пор перегорела лампочка. Щелкнул выключателем, и в ярком свете возникли Евстигнеев, — шапка лихо сдвинута на затылок, — и Сергей. И встревоженные, и веселые.
— Боже! — вскрикнул Косырев. — Приехали?
— Фу ты, черт, Толька! — Евстигнеев поправил шапку. — Мы просто перепугались. Вахтер говорит, недавно прошел. И в окнах, высчитали этаж, свет горит. Звоним-звоним — куда человек делся?
Сергей с улыбкой поставил чемодан. А на заочное опоздал, подумал Косырев. Жаль.
— Да проходите же, раздевайтесь, дорогие.
Они затоптались, снимая пальто и разматывая шарфы.
— А мы с раннего утра в Москве, — сказал Евстигнеев. — Только я освободился — сразу к тебе. Разве не получал телеграммы?
— Какой телеграммы?
Косырев выдвинул крышку ящика, и оттуда, действительно, выпала и телеграмма, и еще письмо. Торопливо отыскал обратный адрес и вздохнул — Речинск, Марцевы. Крупный ученический почерк. Сергей увидел через его плечо.
— Чтой-то ты разволновался? — спросил Евстигнеев.
— Нет, — сказал Косырев, — ничего особенного. Да проходите, проходите.
Выключатели щелкали, и свет заполнял пространство, вырывая из мрака книги, проигрыватель, микроскоп. Фотографию сына и жены. Охватив руками оконный проем, Сергей загляделся на огоньки Москвы.
— Вот, значит, как живешь, — Евстигнеев, озирая комнату, минутно остановился на фотографии. — Скромно, по-холостяцки... Едва ведь втроем не приехали. Павлик пристал, хочу к дяде, ни в какую.
— Ну, рассказывайте, какие дела.
— Дела, дела, — Евстигнеев глянул на Косырева с полуулыбкой. — Все. Все окончательно решено.
Они присели, и он принялся рубить свои короткие фразы. Пленум обкома — дело ближайших дней. В ЦК серьезный разговор был. И похвалили, и поругали. С гордостью слушал, что Речинская область использует счетную технику грамотно, с увеличением производительности... Не ради моды. Но больше, конечно, песочили, добрались до многих фактов. И насчет оптимизации торговли — случаются немалые убытки. И о том, как область, еще при Батове, притаила впрок шагающий экскаватор, а он был нужен в другом месте. Пришлось краснеть.
Евстигнеев и впрямь покраснел, туго пригладил волосы.
— Надо задуматься над собой. И поглубже. Ох, Анатолий, от многогранных обязанностей голова раздулась во много раз. Помнишь, обговаривали? Не знаю, с чем просыпаешься ты, а во мне с ранней рани горят слова: рабочая сила, фонды. Как эффективнее использовать, поднять производительность? Где выход, чтобы субъективное не лезло вперед? Неужели каждодневная суета в чем-то и мешает делу? Хочу добиться перелома характера: нельзя, чтобы жгла каждая мелочь. Но негодно и полуравнодушное олимпийство.
Читать дальше