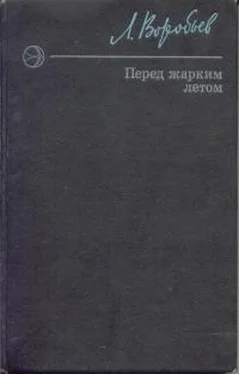Среди газет обнаружил записку: Вера Федоровна беспокоилась.
Была среда, он глянул на часы. Успевает. Что бы то ни было, но послезавтра на операции все должно быть определенно. Через несколько минут запер двери квартиры.
2
Поезд встал у платформы в шесть, звонить было рано.
Он бывал в Ленинграде только зимой, так получалось с разными совещаниями. Холодный и влажный — пронзительный — ветер с Балтики как по аэродинамическим трубам устремляется вдоль проспектов. Между набережными ему и вовсе раздолье: ледяной поток воздуха над ледяным щитом воды. Тропинка через Неву ради сокращения расстояния, и будто ты в поле, один перед бураном. Но сквозь дымку пурги просвечивают корабли зданий, из дали лет. Величественно и, ох, как холодно, как пронизывающе!
Так было и сейчас — холодно, пронизывающе. День едва зачинался в мутной утренней дымке. Косырев вышел к стоянке такси.
Ленинград был для него всегда большом переживанием. Таким же, как и русский лес, и русские реки, поля. Щемит и напоминает о чем-то невыполненном, неисполненном, ради чего ты мало, очень мало сделал. В Москве легче, она своим кручением и верчением гонит, подхлестывает, торопит время.
Теперь весь Ленинград, сосредоточенный на одной цели, превратился в загадку. Все остальные стремления отпали, и он боялся, что именно сейчас, в этот момент происходит непоправимое.
Он переезжал из гостиницы в гостиницу, торопя время. Мелькали лампионы, набрякшие туманной влагой, и свету трудно было пробиться к мостовой, к тротуарам, к идущим людям. На металлических застежках чемоданчика осели холодные капли. В «Астории» повезло, ему вручили белый листок. Двухкомнатный люкс, но все равно. В номере две женщины протирали стены и окна; это были не горничные, а рабочие, в серых халатах. Они собрали ведра, тряпки и сразу ушли. В окнах громоздилась темно-золотая гора Исаакия, искрилась снегом заметенная площадь. Бархатные занавеси и портьеры перед альковом напоминали о том времени, когда и днем и ночью светло, о белых ночах.
Он положил дотерпеть до восьми часов. Наконец-то. Не надо было заглядывать, номер горел в памяти. Гудок за гудком, никто не ответил. Странно. Впрочем, могло быть и дежурство в клинике или еще где. Но Николаю Николаевичу звонить пока не стоит. Сходил в буфет, есть никак не хотелось. Вернулся и, набравшись духу, снова позвонил: гудки. Держи себя в руках.
Лёна обосновалась рядом, на Фонтанке. Колеблясь, Косырев медленно перешел цепной мостик и под сводом арки вошел во двор, заваленный штабелями дров. Здесь она жила, и ходила, и поправляла сбившийся платочек, и через глубокий квадрат двора смотрела на хмурое небо, торопясь на службу, и говорила кому-нибудь: здравствуйте! Он поднялся по темноватой лестнице, нажал кнопку. Никого. Стал стучать. Открылась соседняя дверь.
— Зря стараетесь, они приходят только в пять.
Женщина помолчала, готовая к услугам, но Косырев ничего не спросил, и она — он спускался — проводила его взглядом. Они! Кто это они? Муж и жена? Так холодно, его била дрожь.
В номере сдвинул занавеси. После бессонной ночи сразу уснул. Что-то длилось и давило, и схватывало сердце. Он строил башню, но никак не мог взять поворотную точку. А она была, и он обязан был поймать ее. Эту завтрашнюю операцию. Не спите днем, запрет. Судьба это мы сами. Проснувшись, глянул на циферблат — было три часа дня.
Он оделся. Еще два часа! Отправился в Эрмитаж.
Поднялся посередине беломраморной, и золотой, и зеркальной лестницы, которую и лестницей-то назвать неудобно, скорее дорога на Олимп, и попал вместе с другими в бесконечный лабиринт.
Когда-то в другой жизни они бродили по Третьяковке. С детства он считал себя неспособным к пониманию живописи, школьное рисование было унижением и мучением, ничего не выходило. И музеи были мучением. Тащишься тягучим, особым музейным шагом, рассматриваешь все навалом — смешались в кучу кони, люди. В ногах противная усталость и в голосе сор. Но потом стал выбирать. Пристынешь к какому-нибудь «Над вечным покоем», и оно заживет в тебе. Волны свинцовые, ветер неумолимый, березки согнутые, безлиственные почти, оранжевое пятно оконца. И все. Люби это. Изживешь, переживешь до дна, а в другой раз — «Купанье красного коня». Мышцы его лоснящиеся, тело мальчишечье, ловко оседлавшее зверя. Живи теперь с этим. Лукавить не надо, насильничать над собой. Не ложится в душе Рубенс — люди как мясные груды — подожди, потерпи, может быть, и ляжет. А нет, и не надо, оставь авторитетам. Сегодня ничего не получалось. Ван-Дейк, Эль-Греко, Сурбаран, Рафаэль, Леонардо... Рембрандт! Ничего — пусто и глухо.
Читать дальше