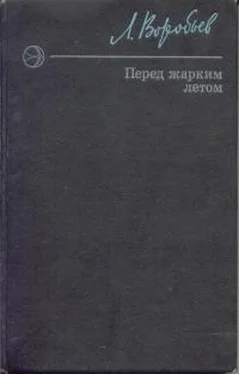Лёна уехала, он остался один. Спасение было в труде, изнурительном и всезахватывающем. Но прошел год, другой...
Первой обратила внимание на Косырева старшая химичка лаборатории Анна Исаевна. Институтское прозвище — Нюрка. Странно, что так окрестили женщину в высшей степени интеллигентную.
Она вела себя куда как тонко. На конференциях, на собраниях смотрела только на него, и все ее длинное тело выражало обожание и сочувствие. Поджидала у выхода, и разговоры были умные — о последнем симфоническом концерте, о зажиме в архитектуре, или, не без отточенности, и последний анекдот. Подделанный под старомосковский говор ее отличался особым, густым произношением буквы «ш» — слово «рожь» получалось без мягкого знака — рошш. И все это в запахе настоящих парижских духов, уж не сомневайтесь. Маленькая ее головка, коротко остриженная и вровень с головой Косырева, симпатично выглядывала из воротника шубки.
Однажды Косырев не утерпел: так хотелось послушать Четвертую симфонию Шостаковича, которая в свое время не исполнялась. Пир интеллекта и эмоций, марсианская музыка. Экстаз, выход в тысячи человеческих существований. Полутьма концертного зала позволила ей сжать его пальцы, а когда он рассеянно убрал руку, она усмехнулась. «Знаете, — сказала она в перерыве, — ваше увлечение Шостаковичем и Прокофьевым архаично. Они уже позади...»
Он вслушивался, вдумывался, пытался вжиться и, казалось моментами, вживался. Пендерецкий — скрежеты, звучания, голоса. Дым забвения, дымы. Капля анчара на обнаженные легкие. А рука на подлокотнике подбиралась, подбиралась к его руке и душе.
В Анне Исаевне было нечто от жирафы, но не натуральной, а такой, каких изображают сюрреалисты. В ее тридцать она вся была подготовлена к тому, чтобы стать женой знаменитого человека, Косыреву надо было наконец сделать последний шаг, а он и не подозревал о такой надобности. Но, услышав, как грубо разносила она нянечку, понял, почему она Нюрка, и провожанья с разговорами окончились. Теперь она, оскорбленная, на собраниях смотрела мимо него. Косырев заметил, что один ее глаз — не часто, изредка — подмигивал, и дергалась черная родинка и казалась искусственной мушкой.
В общем, суждение было таковым — не мужчина. Однако мужское жило в нем, несмотря на изнурительную деятельность. И на одной вечериночке у Твердоградских...
Она была обворожительна, безусловно талантлива, и звали ее Нина Васильевна. Восходящая звезда оперетты и совершенно без предрассудков. В чем-то это отвечало его понятиям: если уж да, так да. Когда она — распустив волосы и приподняв брови над синейшими глазами — пела для него только, он витал на седьмом, нет, на восьмом небе. Ласки ее не надоедали. Из издательства шли напоминания, а очередная книжка встала на мертвый якорь.
Нина вовсе не торопилась замуж, она презрительно именовала мужчину злым домашним животным и предсказывала будущий матриархат. Но дело шло, конечно, к этому, на вечериночках поторапливали тостами. И вдруг выяснилось, что Косырев у Нины Васильевны хоть и главный, но не единственный, «Что же ты думал,— возмущенно сказала она, когда он преподнес ей эту новость, — посадить меня в клетку?» Разоблаченная и точно зная, что Анатолий Калинникович спуску не даст, она не стала финтить. В чем-то Нина была несгибаема и честна. Однако Косырев даже поразился безболезненности разрыва.
Вот и все. Нина Васильевна поднасыпала пеплу, и он сам уже понял особенность своего положения. Женщины, действительно нужные ему, скромно уклонялись с пути. Вся личная его скомканная жизнь была кручением в замкнутой спирали—то вверх, то вниз. Возвращались бесплодные, обращенные в прошлое, мечты. Вспоминалось постоянно: Наташа на берегу моря поддевает ногой гальку, и голова ее склоняется к загорелому плечу, а большие веки прикрывают прозрачные глаза, и концы волос теребит ветерок. Она поднимает веки и говорит: «Знаешь, Толя...»
Он должен был трудиться, времени не хватало.
Все осложнилось, когда снова приехала Лёна Ореханова. Их долгому, хотя и с перерывами, знакомству суждено было продолжиться. Но появилась она до того, как Косырев расстался с Ниной Васильевной...
Анонимкой надо было пренебречь. Но содержание ее стало каким-то образом известным. Пошли догадки и толки, кто написал, сам Косырев поневоле задумывался.
Запомнился один сон. Он видел себя у окна, где зубчатый лес на горизонте. В багрово-сизых тучах заходило солнце. И вдруг подземный толчок, все зашаталось. Легко покрывая высокие здания, навстречу покатился гигантский желтый вал. Задыхаясь, не успев никого предупредить, он бежал по лестницам к шпилю, к вершине. Вокруг бушевала водная стихия, поглотившая все... «И будет медное небо и железная земля». Безоблачно-грозное, низкое небо, которое давит, нечем дышать.
Читать дальше