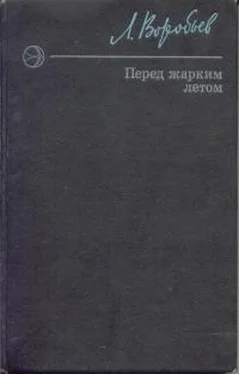— Даже Канта читал, — вырвалось у Косырева, который вспомнил об одной ее дневниковой записи.
— И Канта. Конечно, не нужно было, ничего не понял, — подхватил Евстигнеев, но остановился. — Да ты откуда можешь знать?
— Так как-то сказалось, — Косырев улыбнулся.
— Ну-ну, — Евстигнеев сделал зарубку, и прошлое снова увлекло его. — Усядется на диванчик расхлябанный, косы перебирает и слушает. Как пацанята спящему мастеру табак в нос сунули, или еще в этом роде. Но чуть что, и сразу по рукам: не шали, малолетка. Казалась взрослой, а теперь, с горы лет подумать — девчонка.
Он посмотрел за окно, на медленные, одинокие снежинки.
— Все мы рвались на фронт, к подвигам, А они были при нас — горячий цех, десятичасовая работа. Понимали зачем, понимали — рабочий класс. В свои семнадцать я был здоровенный парень, паек, как слону бублик. И тут Ксенька поступила в райздравотдел, к этому, к другу твоему, Семенычеву.
—Да? — заинтересовался Косырев. — К другу, значит?
— А чем он плох? Старательный, медицинскую пропаганду развернул, — прищурился Евстигнеев.
— Всерьез тебе, что ли, нравится?
— Н-н... Вообще-то, скользкий он какой-то, склизкий. Ксенька его недолюбливала. Стала подбрасывать мне дополнительные талоны — на кашу, на конфетки-подушечки. Я тоже не отставал, то рыбы во время отгула наловлю, то зайца подстрелю. Половину домой, половину ей... Неглупа она была, и, не без моего, думаю, воздействия, шла в ней внутренняя работа, вытравлялось семенихинское... Как думаешь, всех мы переварили, из отпрысков? Или тянется ниточка?
— В общем-то всех.
— М-да, пожалуй. В одном она была несгибаема. Для нас Семенихин — жирный нэпман, для нее — отец. Бывало, перечитывает и перечитывает письма издалека, из Соловков. Меня не подпускала, запретная тема. Ребята на смех, чего приклеился к старухе, погодков кругом полно. Чем кончилось бы, не знаю. Но в сорок третьем пришла и моя очередь, комсомольский призыв. Переписывались, любовь разорванную поддерживали. Потом три месяца в госпитале. Пишу — ни ответа, ни привета. Пишу матери — ответ уклончивый, не слышно, мол, о ней. Война, служба в Германии, я вернулся в сорок девятом...
Евстигнеев прищурился на какую-то обиду и замолчал.
— Что же дальше?
— А дальше ничего. Другая история, не моя.
Он потер лоб. Но перед давностью лицо его снова смягчилось.
— Ляд знает, женщинам труднее, чем нам. Сергей-то — сын ее.
— А кто отец? — спросил, прислушиваясь с особенным интересом, Косырев.
— Откуда я знаю, — стрельнул глазами Евстигнеев и опять притушил голос: — По-твоему, должен был расспросить ее, что ли? С кем гуляла, откуда сыночек? Не встретились, и к лучшему. Однажды только позвонила, насчет Сергея. Андреич на пенсию уходил, возьму, думаю, к себе. Интересный парень, острый, может, и ты заметил. Честно говоря, не всегда уверен, о чем он там думает. Но поступит учиться, буду жалеть.
Они помолчали, задумавшись.
— Сергей-то твой, — сказал Косырев, — на биологический собирается.
— Да-да, — откликнулся Евстигнеев. — Ты бы, профессор, право... Помог бы ему. — И быстро сжал локоть Косырева. — По заслугам, конечно.
— Так ты не знаешь, кто его отец?
Евстигнеев убрал руку, откинулся.
— Что ты, ей-богу!
Он прямодушно усмехнулся, но Косырев не отводил пронизывающего взгляда, и Евстигнеев тоже сощурился вопросительно. Косырев поторопился смягчить.
— А у меня, Ваня, сюрприз.
— Какой такой?
— Это потом. Оч-чень интересный.
— Ну тебя к черту, интриган. Ему как на духу, а он сыщиком, выискивает что-то. Испортил музыку. Лучше пойду посмотрю, какие дела на кухне.
Оставшись один, Косырев облегченно встал. Не так-то прост и прямолинеен Иван, как показалось сначала. Висели линогравюры: на одной Михайловский замок в переплете голых ветвей, объемно, двупланово; на другой — осенний пейзаж в желтой листве, речка, дорога, по которой мчался автобус. Неплохо. Над головой звякнули подвески незажженной люстры. Второй раз ворохнулось в этом разговоре, после Марь Васильны, отстраненное, ждавшее решения. Поучительно с ним говорить и хотелось еще, был один насущный вопрос, а вот начнется ужин...
— Запарка, брат, на кухне, дочка тоже включилась. Часок подождем. Анечка! Мы в кабинете!
2
В кабинете оказалось еще душнее, хотя финские без форточек окна, выходившие внутрь двора, были приоткрыты. На призрачном свету дрожал циркулирующий воздух. Евстигнеев зажег торшер сбоку письменного стола. Все стены были заставлены книгами, пестрели корешками собраний сочинений.
Читать дальше