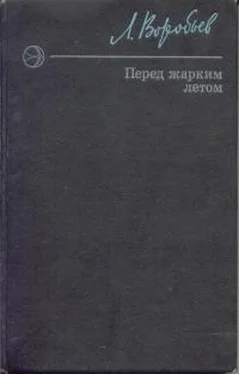Под окнами грохотнул грузовик. Тихо. И вдруг — телефонный звонок. Тревожный голос, торопясь, сказал, что звонят четвертый раз. Дела Батова совсем плохи, и если Косырев сможет вылететь, билет заказан. Сможет? Машину немедленно высылают.
Он почувствовал, как учащенно забилось сердце.
Там, в Речинске, прошло детство и начальные юные годы. Родных там не оставалось; товарищей, наверное, разбросало по стране; многих отняла война. Старшее же поколение... Косырев мог только мечтать о дорогой для него встрече.
Но там тайга, река, родной воздух. Там люди, хоть и другие. Там Сибирь.
Впрочем, в Речинске наверняка был одни близкий человек. Косырев совсем забыл, но тот разыскал его через адресный стол, и даже понравился задором комсомольского работника послевоенных лет; восстановилась их приязнь, дружба. Потом наезжал раз-два, но это было давно. Пошли такие события и в общественной, и в личной жизни, что о комсомольце Ване, пожалуй, ни разу и не вспомнилось. Теперь Иван Иванович Евстигнеев, как рассказал Нетупский, был вторым секретарем обкома. И там, в Речинске, он вспомнил с жаром, жила в эвакуации ленинградская девчушка Лёна Ореханова со своим дедом. В летние каникулы они возвращались на великую Ведь. Дед там и похоронен.
Давно уже задумывал побывать, но и хотелось, и боязно было. Почему мы оттягиваем встречу с родным краем, чего робеем? Того ли, что нарисуется, что проявится в нас самих?
Он заторопился. Позвонил Юрию Павловичу и сказал, что в пятницу операция обязательно состоится. Вернется накануне.
Все сборы — уложить необходимое белье. Сверху папка с последними соображениями о психосоме. Надо привести хотя бы в относительный порядок и — на всеобщее обозрение. Пусть додумывают, иначе прождешь сто лет. То кажется близким, то... Ну, все. Впрочем... впрочем... Как хорошо, что вспомнил. Он выдвинул один ящик, другой. Нет. Полез в книжный шкаф и под стопой бумаг отыскал книгу в зеленом бархатном переплете, сдул пыль. На первом листе было аккуратнейше выведено: «Дневник К. С. 1.1.1930», а потом небрежно закончено: «20.3.1944». Дневник этот попал к Козыреву от покойной бабки уже после войны, вместе с памятными вещицами и фотографиями, и он едва не выбросил. Несколько лет назад наткнулся, снова пролистал и, обнаружив свое имя, заинтересовался. Дневник принадлежал Ксении Семенихиной, однокашнице. Раскрывала она его не часто, иной раз через полгода, но, взявшись, писала пространно: наблюдательность росла со временем — от первых старательных записей до бисерного почерка последних. Перед войной там появилось и имя Вани Евстигнеева, а потом стало повторяться все чаще. Записи обрывались неожиданно, осталось много чистых листов... Как он попал к бабке? Где теперь Ксения? Косырев ничего не знал. Но дневник по праву принадлежал если не Ксении, то Ване, хотя жизнь и развела их. Приятно выполнить застарелый долг.
На Речинске для Косырева скрещивалось многое.
В последний раз оглядел квартиру, проверил газ, присел перед отъездом. У дверей валялся сиротливый войлочный коврик. Так и не пришлось увидеть Челкаша, лохматого каштанового спаниеля. У Челкаша был плохой хозяин, которого оставалось ждать и ждать, довольствуясь обществом других людей, тоже хороших, но не таких любимых. Год назад он прихворнул. Не очень, правда, серьезно, но все же пришлось поместить его в собачью лечебницу. Доверяя, он вскочил в железную клетку охотно — понюхать. Но когда увидел, что его оставляют, издал такой вопль, что Косырев трусливо сбежал. Пришел за собакой через две недели. В пахнущей горькой псиной комнате хозяева чинно ожидали своих зверей. Наконец в углу скрипнула дверца, и вышел Челкаш с погасшим взором, потеряв веру во все и равнодушно нюхая пол, он волочил свои длинные свалявшиеся уши, как никому не нужные тряпки. Почуяв и увидев Косырева, замер на мгновение, еще не веря, а потом залаял, запрыгал, полез целоваться. К нему сразу вернулся аппетит, и он на лету с великим удовольствием подхватил кусок хлеба, брошенный прохожим. Он простил все и навсегда, лишь бы быть вместе. И он тащил Косырева домой сверх всяких собачьих сил...
Свежо, первые звезды, летная погода. Застекленные крыши биофака отсвечивали закатом, как египетские пирамиды. Под ветерком зябко клонились голые ветви деревьев. Навстречу шел знакомый негр-студент в пальто с пушистым воротником, глубоко засунув руки в карманы. Он поклонился Косыреву, в улыбке блеснули зубы.
— Холёдно, — сказал он, старательно выговаривая слово.
Читать дальше