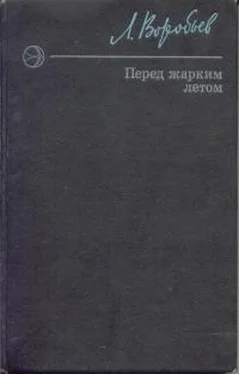Комиссия вернулась в институт. Поговорили об увиденном и подписали перепечатанный тем временем протокол. Провожавший Косырева по коридорам Семенычев рассказывал о технике вскрытия, о серых ядрах, упомянул Хартля и Джонстона. Косырев прислушался. Выходило, что Семенычев предлагает новые методы препарирования мозга.
— Описано у Комарома.
— У кого? У Комарова?
— Ко-ма-ром. Венгерский патологоанатом.
— Вот как, — мотнув головой, Семенычев огорченно сжал руки. — Такая эпоха. Открытия совершаются одновременно.
— Но вообще, — Косырев счел правильным подбодрить коллегу, — вообще, вы работаете артистически. С вами нет томительного ожидания. Не в осуждение вашей полезной профессии скажу, однако, что живого человека я вам не доверил бы.
— Почему?
— Слишком увлеченно вскрываете...
И подумал: к сожалению, тип прозектора, смакующего смерть, существует во врачебном мире. Семенычев не понял, принять ли сказанное как комплимент. Дальнейших разъяснений не последовало, они вышли на крыльцо, и тогда он с некоторым сомнением спросил:
— Говорят, вас сам Евстигнеев встречал?
Косырев пропустил вопрос без внимания. Черта едва, все ему, видите ли, нужно знать.
В машине Чапчахов подкрутил усики, надул шею.
— А я думаю, скончался он от перенапряжения. Нельзя перенапрягаться. Я, например, никогда не перенапрягаюсь.
И это было точно, машина Чапчахова двигалась чуть быстрее прохожих. Их обогнал фургон с красными крестами; у обкомовских ворот он повернул в глубь двора — мимо колонны ждавших проститься, мимо прислоненных венков.
Косырева сразу провели к Евстигнееву. Тот говорил по телефону, держа наготове другую трубку. По-свойски кивнул, кивком этим пригласив сесть. Окончив разговоры, откинул голову, закрыл глаза. Обветренное лицо сделалось похожим на лицо слепого Гераклита — ни единой мелкой морщинки, все глубокие, вырубленные складки. Наконец открыл глаза и непонятно спросил:
— Так как же?
Не ожидая ответа, он отхлебнул чая, сморщился и негодующе отодвинул стакан, в котором колыхнулась рубиновая жидкость. Глаза набухли внутренними, спрятанными слезами.
— Ах, какой это был человек. Толя! Он всех знал, любил область. Ты-то очерствел, смерти наблюдая, а это наш родной человек. Позавчера разговаривал с живым...
Евстигнеев помолчал. Но вдруг встал, всей грудью выдохнул воздух и сделал на лице иное, торжественное выражение. Прикалывая траурную повязку к косыревскому рукаву, напомнил:
— Похороны завтра.
Значит, завтра надо ехать на кладбище, иное сочли бы черствостью. Евстигнеев пристроил наконец повязку и, сменив тон на приказывающий, сказал то, о чем думал Косырев:
— Завтра день особый, будут и поминки. А послезавтра, учти, вечер мой. Не придешь, жена обидится.
— А как же иначе, — удивился Косырев. — Конечно, приду. У меня к тебе дело есть, между прочим.
Евстигнеев, стрельнув темными, с красноватыми белками глазами, чуть улыбнулся.
— Между прочим, и мне с тобой вот как поговорить надо.
Он провел ребром ладони по горлу. Другая рука, лежавшая на плече Косырева, была такая горячая, — горячее, чем утром, — что теплота ее чувствовалась сквозь пиджак.
Они пошли по коридорам, запах хвои делался все слышнее и слышнее. Быстро скрипели ботинки Евстигнеева, Косырев едва поспевал. Не такая уж разница в годах, Евстигнеев годом моложе. Но ни лыж, ни реки, ни леса, только город. Позор, позор, и нужно было ломать безо всяких задержек, поберечь природное здоровье.
Заиграл оркестр.
2
Едва начинало темнеть. Но надо было отдохнуть после ночной отсидки на свердловском аэродроме. Косырев вернулся в гостиницу.
У столика листала журнал молодая женщина. Дежурная отлучилась, и, ожидая, Косырев из-за газеты рассматривал ее. Челка приоткрывала чрезмерно высокий лоб. Прозрачные глаза, кокетливые завитки волос на висках, как у Кармен, только светлые. Матовая кожа подогрета внутренним жаром. Не кожа, а оболочка души. Одно неуверенное движение руки к набухшим венам лба — и он профессионально отметил: страдает головными болями. Пронзило сходство с близким человеком. Или показалось? Когда, ворча на кого-то, пришла дежурная, они взяли ключи, и на отдалении, но как привязанные, пошли вдоль дверей. Вместе завернули за угол. Она и не взглянула на Косырева, благо ковер приглушал шаги.
В родном городе, накануне других встреч, Косырев чувствовал себя взвинченным. Спать не хотелось. Но так продрог, и в номере оставалась сырость недавней стройки, что пришлось забраться под одеяло. На потолке качались тени голых веток, сплетаясь в осмысленные фигуры.
Читать дальше