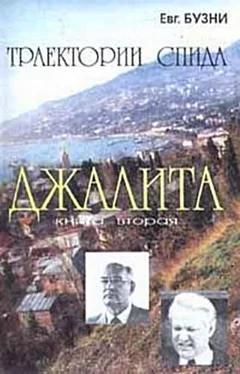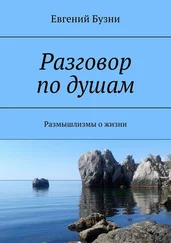На этот вопрос так и отвечали у нас — отрицательно, и убирали всё, что связывалось с противореволюционными деяниями, идеями, мыслями. Уничтожались памятники, олицетворявшие царское господство, убирались с книжных полок книги великих мастеров писателей, не понявших и не признавших революцию. Тогда, ради воспитания нового поколения в новом духе, убирали с глаз его всё, что походило на скверну и всех, кто эту скверну нёс.
Но это был период революционного подъёма, энтузиазма, восторга, заслонявшие многое пламенем борьбы, во время которой трезвые мысли самого Ленина не всегда замечались или принимались, а потому, например, писатель Аверченко долго не публиковался в Советской России, хотя лидер революции Ленин и назвал его талантливым писателем, рекомендуя талант поощрять и печатать, несмотря на враждебность писателя к строю.
Однако прошло время, и стали печатать, да не только Аверченко, но и Есенина, Бунина, не праздновавшихся долгое время властью. Сохраняли памятники и Петру Первому, которого продолжали называть великим, вопреки точным сведениям о сотнях и тысячах бедных крестьян погибавших при строительстве города Петра, названного впоследствии городом Ленина.
Дело в том, что не злопамятен русский человек по натуре, не может он долгое время помнить плохое, но всегда старается удержать в памяти доброе, сделанное для него. Пусть через годы, десятилетия, но откопает-таки он имя человека, построившего мост через реку, что вот уже век стоит, не ломаясь, или песню написал, что никак из памяти поколений не уходит, принося радость и помогая в трудные минуты. А, вспоминая этого человека, оставившего добрый след своей жизнью, никто обычно не копается в его биографии, чтобы узнать, не опрокинул ли он однажды крынку с молоком на платье матери, балуясь и шаля у той на коленях, дабы обругать его за это через сто лет в вдогонку.
Не святые на земле живут, а обыкновенные люди, каждый с ошибками и недостатками. Но память приносит и оставляет в истории доброе и полезное людям, то есть то лучшее, что должно быть примером остальным, которые должны становиться лучше и чище, чем предыдущие поколения. Это не писаный закон, а сама природа, стремящаяся вечно к совершенству.
Вот почему барельеф князя Голицына появился в винодельческом институте, благодарном ему за создание отечественного виноделия на Руси.
В то же время портреты и памятники Сталину повсюду поснимали. Одна несправедливость устранена, так появилась другая. Только эта другая покруче первой. Голицын не занимался политикой. Его интересовала одна отрасль, что само по себе являлось политикой, только экономической, но поднимавшей престиж государства.
Сталин занимался политикой, в которую включались все отрасли жизни, все её аспекты, вместе, не то чтобы поднявшие государственный престиж, а создавшие его, то есть возродившие из обломков; при нём страна стала такой, что не уважать её никто не смел. Убрать это из истории никогда не удастся, сколько бы ни копались в не стираном белье глумливые политики и их приспешники журналисты жаркого с ударением на «о», то бишь не те, что любят жаркие споры до нахождения истины, а те, что охочи до жареного, припахивающего палёным мясом мертвечины, за которую платят единовременное пособие тогда, когда это жареное нужно к столу рвущихся на Олимп власти политиков.
Сталина начали называть и вандалом, и садистом, и душителем, и даже немецким шпионом, но не те, ради кого будто бы старались печатные крикуны, то есть не народ, продолжавший хранить портреты вождя и вывешивать их на стёклах ревущих на дорогах грузовиков, а те, кто сами, не веря в сказанное, старались на волне этого грязного крика выплеснуть на поверхность свои белые откормленные тела, чтобы они показались чистыми и непогрешимыми.
Но простым людям-то что до их проблем? В памяти народной остается, в конце концов, только доброе, сделанное для всех, хорошее, что невозможно стереть временем, как карандаш с бумаги резинкой. Потому остаются навечно, проходя через столетия, Юлии Цезари, Спартаки, Степаны Разины, Ленины и Сталины. Остаются и Голицыны.
Вот о чём мог состояться разговор у замечательной галереи барельефов института «Магарач», но не состоялся, поскольку двое прошли мимо, почти не глядя по сторонам. Одного интересовало, зачем это приехал неожиданно председатель исполкома, другой ещё сам не знал, с чего начинать беседу.
Кабинет директора перестраивался уже после покойного Павла Яковлевича Голодриги. При нём это была большая, может быть, не совсем уютная комната, но с диванами, в которых наиболее авторитетные пожилые учёные позволяли себе, утопая в мягкой обшивке, засыпать во время учёных советов, просыпаясь лишь от внезапно звеневших в неподходящий момент наручных часов директора, зуммер будильника которых он обычно долго не мог выключить, что позволяло одним саркастически улыбаться над неловкостью директора, другим почтительно завидовать обладателю часов с будильником, третьим просто просыпаться от назойливого трескучего звука.
Читать дальше