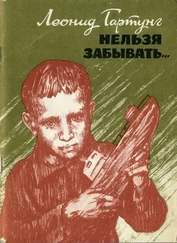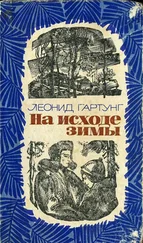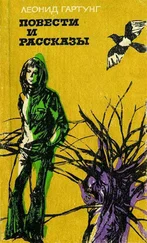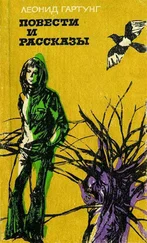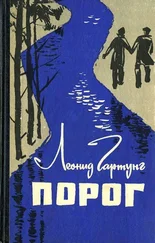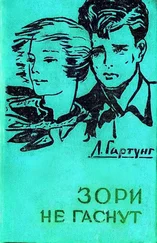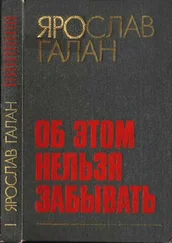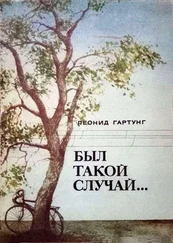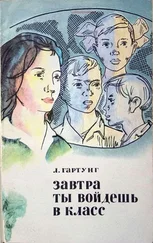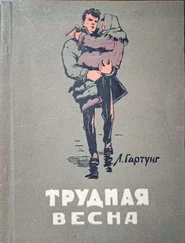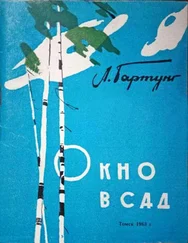Осенью мы строили на полях овощехранилище. Не помню какую работу я тогда выполнял, но остался в памяти желтый березняк, который окружал стройку, и многочисленные дымы костров около нее: из города приходили помогать копать картофель так называемые «процентщики», которые за работу получали 10 процентов выкопанной картошки. Приходили целыми семьями со своими тележками и кулями. Пока мужья и дети работали, женщины разжигали костры и пекли картошку. Это не запрещалось — на месте ешь сколько хочешь, только не уноси домой.
Иногда на полях встречались люди с необыкновенными судьбами. Так, здесь я встретил племянника Немировича-Данченко. Уже немолодой, он был удивительно похож на своего знаменитого дядю. Одетый более чем скромно, он тоже был одним из «процентщиков». Мы с ним часто говорили.
Здесь же я встретил изобретателя вечного двигателя немца Беккера. Оборванный, обросший седоватой щетиной, он с увлечением говорил мне о своих завистниках и многочисленных врагах.
— И давно он у вас работает?
— Кто? Двигатель?
Я был уверен, что он ответит: «Пока не работает», но он сказал бодро:
— С февраля месяца… Работает, не останавливаясь.
Тогда я понял, что передо мной не фанат…
В одной комнате с нами жил молодой столяр Ватыцин.
Вернее нас поселили к нему. Жил он с женой и с ребенком. По нашим меркам, он жил зажиточно. У них был стол, у нас и того не было: первое время мы ели, сидя на кровати и ставя миску на колени.
Днем он работал в хозяйстве, а вечером «для себя» — мастерил полочки для цветов, табуретки, чинил мебель. Работал он на полу, сидя «по-турецки». Мне было непонятно, почему он, такой дельный мастер, не удосужился соорудить себе верстак. Спросил я его об этом:
Он ответил:
— Если поставить верстак, то обязательно обложат налогом, и не отвертишься — кустарный промысел и точка. А налоги на кустарей, сам знаешь какие — не ходи я на работу, мастери дома чуть ли не круглые сутки — все равно не заработаю, чтобы выплатить этот налог.
Как-то он рассказал мне, как попал на Степановку. Сын кулака, он вместе с родителями был выслан в Колпашево. После их смерти бежал в Томск. В пути ночевал под стогом, а был сильный мороз. Простудился, долго болел, но в больницу не обращался — боялся, что посадят за побег. В результате нажил тяжелую болезнь почек. Но от комендатуры все же не ушел — она водворила его на Степановку.
Утром я уходил на работу в хозяйство, а вечера у меня были свободны. Вместе с одним стройбатовцем стал мастерить санки для продажи. Ходили в лес, выбирали подходящие для полозьев березки. Распаривали их на углях в печке и гнули полозья. Потом мастерили сами санки. Это был, хоть небольшой, но приработок. Мы мечтали вырезать деревянные ложки — на них был большой спрос, но не смогли достать нужного резца.
Каждый день я плотничал с бывшими «кулаками».
Из них выделялся Михаил Чернов. К нему относились как к человеку особенному. Вероятно, не попади он в ведение комендатуры, из него получился бы выдающийся изобретатель. Почему он попал на учет комендатуры?
Его отец имел небольшую сельскую водяную мельницу. После смерти отца она перешла по наследству Михаилу. А тут началось раскулачивание…
Степановское начальство относилось к нему не так, как к другим ссыльным: обращались на «вы», поручали работу, требующую смекалки и знаний. Так, под его руководством, был построен подвесной мост через Ушайку. Мост на стальных канатах — тут было над чем подумать.
Между прочим, однажды меня и еще одного плотника направили обить двери квартиры отца Ирмы. Его семья (жена, сын, дочь, теща) жили в большой комнате на втором этаже дома, сохранившегося еще с дореволюционных времен. Спросил Петра Петровича, что пишет Ирма, скоро ли вернется. Он не сообщил мне ничего радостного: по прежнему работает на военном заводе, а о том, когда вернется, ничего не пишет. Должно быть, нужно ждать окончания войны.
Всей семьей мы ежемесячно ходили отмечаться в комендатуру. У нас был определенный день явки к коменданту. Он в толстой бухгалтерской книге ставил галочки против наших фамилий, мы расписывались. Расписывался, значит, не убежал. Нужно сказать, что за семь лет моего пребывания на Степановке не случилось ни одного побега. Коменданту, который наблюдал за нами, в сущности, нечего было делать.
Сперва комендантом был Меховцов, потом Раскурин. Меховцов по натуре был человек не злой, мог даже пошутить.
По другому держался Раскурин. Он был всегда сумрачно серьезен, и никогда не только не смеялся, но даже не улыбался. Смотрел на людей настороженно, недоверчиво; разговаривая, он словно примеривался, куда бы удобней нанести тебе удар.
Читать дальше
![Леонид Гартунг Нельзя забывать [повести, сборник] обложка книги](/books/406023/leonid-gartung-nelzya-zabyvat-povesti-sbornik-cover.webp)