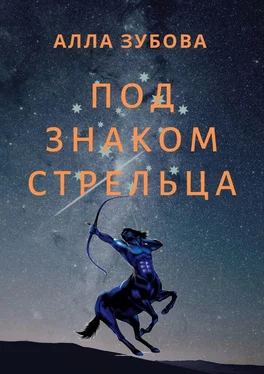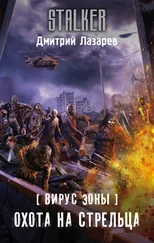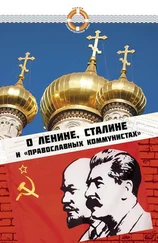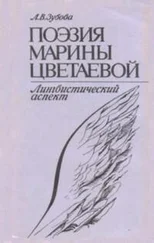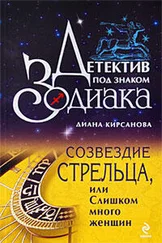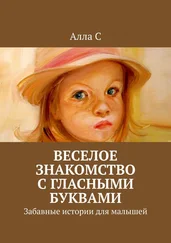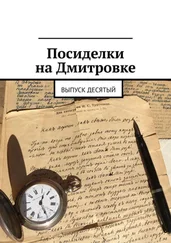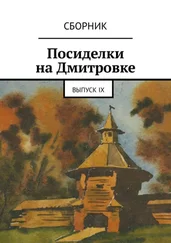Я с великой надеждой смотрю на людей искусства, культуры, призванных своим талантом помогать молодежи отличить плевелы от чистых зерен, воспитывать в себе человечность, высокую духовность. Это работа не одного дня, но века должно хватить».
Пресс-конференция заканчивается, а вопросов у журналистов еще много, и они окружают Ролана Антоновича. И я в этой толпе. Быков меня узнает, берет за руку, притягивает к себе и, улыбаясь, громко представляет меня, солидную тетю: «А вот с этой девочкой мы знакомы еще с пионерских времен, и зовут ее „Аллочка-запевалочка“».
* * *
Не без иронии подмечено, что часто в воспоминаниях о каком-либо известном человеке автор больше пишет о себе. Наверное, упрек справедливый. Но мне деваться некуда — начать придется с себя. Есть, правда, смягчающее мою «вину» обстоятельство: у детей военной Москвы имена и фамилии были разные, а жизнь одинаковая, будто нашлепанная под копирку, — голодная и свободная от материнской опеки. Так что, говоря о себе, говорю о большинстве.
До 43 года мы с мамой были в эвакуации, в глухой тамбовской деревушке. Московские соседи, не трогавшиеся с места, написали нам, что жителей разбомбленных домов расселяют по пустым квартирам и, если мы не хотим потерять свою комнату, надо всеми правдами-неправдами приезжать. Правдами добраться до Москвы не было никакой возможности. Действовать пришлось неправдами. Меня, двенадцатилетнюю девчонку, мама собрала в дорогу и на авось, на протырку отправила с одной бойкой женщиной, у которой имелся вызов. Ее муж летчик остался без обеих ног, и его надо было забирать из госпиталя.
Путь наш был долгим и опасным. Несколько раз меня ловили военные контролеры, грозились ссадить, но жалели, и я, забившись под мешки и чемоданы в углу товарного вагона, пыталась спрятаться от следующей проверки. До дому все-таки добралась. Комната наша представляла печальное зрелище: книги и содранные со стен обои взяли на растопку, мебель — на дрова, вещи тоже кому-то пригодились. В то время из-за таких мелочей не горевали. Главное — стены, пол, потолок, окно и дверь с замком — было в наличии, значит, можно жить. Закрепившись в комнате, как в боевом окопчике, я определилась со школой; чтобы не записывать меня в беспризорные, РОНО дал вызов маме, и она вскоре приехала.
«Яко наг, яко благ, яко нет ничего» — это про нас. Главная ценность в доме — черная тарелка репродуктора: сообщения Совинформбюро, концерты по заявкам, письма с фронта (ждали: может быть, объявится отец, пропавший без вести) и замечательные детские передачи. Услышала как-то в «Пионерской зорьке», что Городской Дом пионеров приглашает школьных активистов на сбор. ГДП находился от меня совсем неподалеку, в переулке Стопани на Кировской. Так я попала в самую круговерть московской пионерской, а потом и комсомольской жизни. Прибежав из школы, сделав (а иногда оставив на поздний вечер) домашние задания, я бежала в родное пристанище. Нас там не кормили, не поили, там нам давали большее — возможность приобщиться к самому лучшему, чем располагала тогда столичная культура. Многих знаменитостей впервые я увидела в Городском Доме пионеров. К нам приезжали выдающиеся ученые. Помню, какое впечатление произвела на меня встреча с академиком Николаем Васильевичем Цициным. Его рассказ о новых сортах пшеницы был так интересен, что потом я долго зачитывалась «занимательной биологией». Приехали к знаменитые футболисты, говорили о том, как важны для человека физкультура и спорт, и я бежала записываться в школьную секцию художественной гимнастики.
Какое это было благое дело — будить в детях инициативу, взрыхлять целину их скрытых возможностей, учить дерзать, искать и находить в своей душе особый интерес к какому-либо занятию, которое потом может стать главным делом жизни.
Как ни просторен был двор Городского Дома пионеров, где мы играли в волейбол и бегали в «салочки», как ни вместителен зрительный зал, всегда битком набитый ребятней, завсегдатаев ГДП мы хорошо знали. Знали и Ролана. Словно маленький домовичок, он постоянно был тут. Многие из нас думали даже, что он здесь и живет. Худенький, большеротый, с огромными серыми глазами, плохо одетый. Его старый пиджачок был длинноват, и ему приходилось постоянно засучивать рукава, а затертая кепочка, наоборот, была маловата, и мальчик то и дело натягивал ее на свой широкий лоб. Лицо его было подвижным, как у клоуна. Смеялся он громко, во весь свой большой рот, заводя уголки губ высоко вверх. Когда огорчался, лицо его делалось похожим на маску печали. В зрительном зале у него было любимое место в середине первого ряда. Еще он любил смотреть на сцену сидя на стуле за кулисами. Мы знали, что Ролан занимается в театральной студии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу