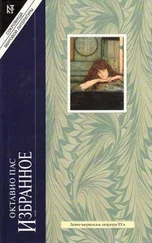Хотя эти циклы противоречивых эмоций стремительно набегали и отступали и стоили ей ужасного душевного напряжения, все же они медленно и верно толкали Амину вперед, а со временем стали не просто циклами, а спиралями. За несколько часов, проведенных на скамейке, боль привела к осознанию, осознание – к решению. Например, сначала она с болью, а потом со злостью припомнила, как сильно он изменился, безвольно поддаваясь течениям и приливам вокруг них, несмотря на то что она крепко держалась своего курса. Она наблюдала, как он двигался «в ногу со временем», и теперь, если посмотреть отрешенно и разумно, он приблизился к некоему подобию любовной истории и упражнялся в негодующей, тяжеловесной страсти к политике и экономике. Что произошло с ним и с другими, почему они презрели любовь между мужчиной и женщиной и со рвением и обидой отвергнутых воздыхателей бросились обсуждать государственную политику? Сеид стал совершенно другим человеком. Он позволил миру проникнуть всюду, а Амина – нет, и никогда не допустила бы этого, предпочитая собственную жизнь. Благодаря таким разительным переменам, на работе Сеиду ничто не грозило. Но у Амины были убеждения, которые она не могла предать, и она знала, что ее штатная должность тоже не вечна, и она может не продержаться на ней даже до пенсии, хотя, видя тихое отчаяние почетных профессоров, хотела бы работать до последнего. Как можно повествовать об ужасах войны и ее последствиях – областью ее исследований была Франция двадцатого века, – чтобы не огорчить некоторых студентов, этаких Алис-в-Стране-чудес, которые ничего в жизни не видели и, зацикленные на комплексе жертвы, станут требовать предупреждений: «Осторожно! Сцены, содержащие насилие!» В этом дурдоме ей было все труднее лавировать между подводными камнями своего второго, после французского, языка (третьим был арабский времен ее детства, подученный позднее).
Амина с изумлением узнала, что теперь ей запрещено описывать зверства, совершенные над белыми людьми или мужчинами. Вначале она думала, что это шутка, но оказалось – нет, и вскоре она пришла к выводу, что подобный режим является всего лишь механизмом передачи власти той или иной из противоборствующих фракций в донельзя инфицированном, порочном кровотоке университета. Ее защищала арабская фамилия. Отец Амины был родом из Алжира, как и мать, но мама – голубоглазая и белокурая, как и сама Амина, происходила из французских колонов. Что могли знать эти идиоты, эти маленькие комиссары-самозванцы, почти ежедневно кидающиеся из одной одержимости в другую, что они знали о смешении кровей, о расе, о бытие, об истории, о любви? Несмотря на ее многие отступления от ортодоксии, Амина была в некотором смысле «отпущена на поруки», потому что была арабкой, а стало быть – не белой в их понимании. А еще потому, что она женщина, интеллектуалка и иностранка. С другой стороны, она была блондинка с голубыми глазами, потрясающе одевалась (покупая одежду в основном в Париже, когда приезжала домой) и была от природы элегантна, от нее веяло вопиющим элитизмом и привилегированностью, хотя она никогда не была носительницей привилегий ни в буквальном, ни даже в расхожем ложном понимании этого слова. Амина сомневалась, что долго продержится в американской университетской системе, поскольку была виновна в самом тяжком из грехов – она мыслила и говорила свободно.
Все стало проясняться гораздо быстрее, чем она ожидала. На самом деле все произошло стремительно, еще до наступления вечера.
* * *
Въезжать в арборетум на полном ходу было очень опасно, потому что за обедом она слишком много выпила. А именно – двадцать пять унций японского пива; для нее почти достаточно, чтобы свалиться под стол. Амина совсем не пила не потому, что была мусульманкой, – даже в детстве в Алжире ее не воспитывали в духе веры, просто она не любила пить и не нуждалась в алкоголе. Но после того, как Сеид выбил почву у нее из-под ног, когда она пришла домой после лекции в одиннадцать часов, и покинул дом с немецким рюкзаком за плечами, чтобы никогда не вернуться, Амина ни минуты не могла оставаться одна. Поэтому она взяла велосипед – она действительно любила свой велосипед – и неожиданно очутилась на Юниверсити-авеню в мексиканском заведении под названием «Новый аутентичный ресторан Селии».
Это была в буквальном смысле реинкарнация прежнего учреждения, и, подобно своему предку, в этот жаркий полдень бабьего лета ресторан радушно встречал посетителей прохладой, источаемой мощными кондиционерами. Амина заказала салат с морепродуктами и «Кирин итибан», почему-то решив, что «итибан» означает «маленький». Ей принесли громадную стеклянную кружку, которая, наверное, простояла в морозилке с 1969 года и была так холодна, что подействовала на нее почти как анестезия. К тому времени, когда Амина вышла из ресторана, голова у нее кружилась от яркого солнечного света, и впервые в жизни в шестьдесят один год она села на велосипед подшофе. Это было опасно, весело, и оттого-то она мчалась так быстро и совершенно не напрягалась по этому поводу. Она настолько не привыкла к алкоголю, что надеялась: опьянение исчезнет, стоит только оплатить счет и пойти почистить зубы – тридцать секунд каждый квадрант, как всегда тщательно. У каждого жителя Калифорнии, ладно, у каждого жителя Пало-Альто белоснежные зубы. Такие же были и у Амины, хотя она не могла соперничать с фторированной молодежью, чьи улыбки слепили не слабее фар локомотива. И все же с фарами или без фар, они не могли сравниться с мягкостью, мудростью и теплотой ее неподражаемой улыбки, сохранившей с детских лет всю свою невинность, – прожитая жизнь привнесла в нее лишь силу и благородство.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу