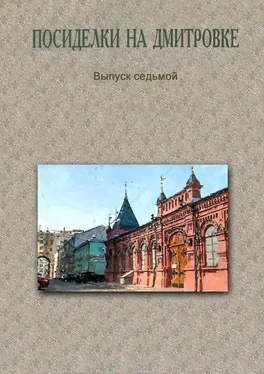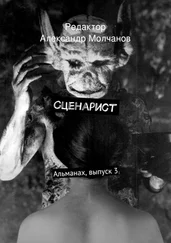Я тут же выбрал Ван Гога, у моей жены было другое предпочтение — Сезанн, но мне так хотелось купить знаменитую желтую спальню голландца, что жена не спорила. Однако когда мы подошли к прилавку, именно этого Ван Гога забрали. Какая жалость! Только жена не огорчилась. Сказала без всякого сочувствия: «Теперь купим Сезанна».
Я был к нему равнодушен. А она любила Сезанна. В залах Пушкинского музея, на зарубежных выставках, которые только начали появляться, первым делом подходила именно к его полотнам. Что находила в них, в этих цветных бесформенных пятнах, клубящихся зеленых и коричневых массах? Чем привлекали ее эти неподвижные, тяжеловесные объемы, громоздящиеся один на другой? Для меня это было загадкой. Я недоумевал и приставал с вопросами: «Почему тебе нравится?» Ответа не получал. Она сердилась: «Отстань!» Не любила вообще говорить о том, что ее волнует. Но как-то я все-таки донял ее своими расспросами, дело было как раз на зарубежной выставке, и она, чтобы отделаться, сказала:
— Я бы хотела здесь жить.
С того времени прошло много лет. Мое отношение к Сезанну изменилось. Надо было просто немного сдвинуть угол зрения, отойти от навязанного с детства сравнения со знакомой натурой. Его крупные, без всякой прорисовки цветовые пятна — знак незыблемости, величия, знак вечности. Он строил свое мироздание, которое соперничало с тем, что окружало нас.
Вспомнилось все это недавно — на выставке в Вене. Сюда привезены были картины из многих стран Европы. Психоделический Моне, раскаленный Ван Гог, общительный Писарро, с которым приятно хлюпать в дождь по вечернему Парижу. Ходить, не спеша рассматривать эти картины — редкое удовольствие. И вдруг — такая неожиданность — наш Сезанн! Никогда не думал об оригинале, о том, что он вообще существует. Деревья, нависающие над заливом, обнаженный пласт земли — подмытый берег, бледное небо, но вся природа устремлена к маленькому приземистому домику, который затаился в глубине пейзажа. Да, все так. Наш! Вода отражает краски неба и земли, она голубая, зеленая, охристая, чувствуется ее тяжесть, она как бы несет на себе весь надводный мир, придает ему еще большую основательность и значительность.
Та болгарская репродукция с тех пор так и осталась висеть в квартире, хотя украшать стены изделиями полиграфии давно стало дурным тоном. Впрочем, копия уже и не воспринималась как нечто имеющее отношение к искусству, она была просто напоминанием о первой зарубежной поездке. И вот — такая приятная встреча… Только оригинал более ярок, краски свежи и чисты. Первые цвета, которые появились на земле. Полотно в первозданной красе, оно как бы омыто солнцем, казалось окном в другой мир. Картина называлась «Загородный дом у воды». Принадлежала когда-то дочери барона Ротшильда Мириам. Постоянным местом картины был Иерусалим, и не окажись я в Вене именно в эти дни, когда проходила выставка, может, никогда бы ее не увидел.
Я обходил выставку один раз, другой, она была небольшая, всего два зала, но где-то с половины всё оставлял и возвращался к Сезанну. Он не отпускал, притягивал к себе. Ван Гог, Моне — всё замечательно, всё прекрасно, но не терпелось скорее очутиться перед этим загадочным домом, который спрятался в глубине парка, и был центром картины. Центром мироздания. Такой — почти физической тяги к какому-либо полотну, когда вокруг десятки других, и все прекрасны, не испытывал никогда. Почему — не мог объяснить. Понимал только, что на этой выставке у Сезанна не было соперников. Он был выше всех.
Тут я вспомнил давние слова моей жены: хотелось бы здесь жить. Это ли, или мои сегодняшние ощущения она имела в виду, когда говорила такие слова? Или что-то другое? Скорее всего, она снова бы рассердилась и ничего не ответила. А может, ограничилась каким-нибудь незначащим ответом, чтобы отделаться от назойливого любопытства. Но я, несомненно, его запомнил бы. Только теперь я никогда не задам своих вопросов. Некому их задавать. Уже много лет ее нет.
…Аптека. Улица. Фонарь
Кому пришла в голову эта странная, необычная мысль: написать на торцевых стенах, а иногда на фасадах городских домов голландского Лейдена стихи поэтов мира на их родных языках? Китс, Хемингуэй, Дос Пассос, Томас Дилан, Уильям Йейтс — по-английски; Верлен, Бодлер — по-французски. Есть немецкие — Рильке, Целан. И еще десятки имен, десятки языков — Мицкевич, Лорка, Неруда. Есть тексты на арабском, японском, урду. Вылавливаю наши, русские строфы. Блок: «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека…» Все-таки за рубежом, да на родном языке они читаются иначе, кажутся более значительными. Хотя куда уж…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу