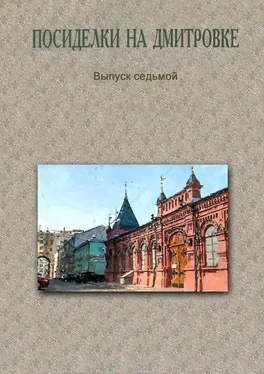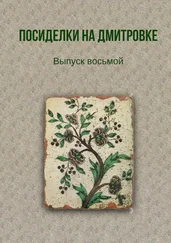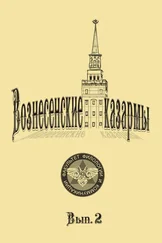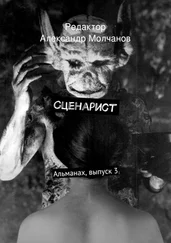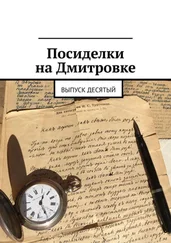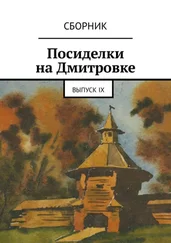Видел собор три или четыре раза, и каждый раз он не просто привлекал внимание — не давал уйти, как-то по-тихому, но настойчиво занимал свое место в душе, оставаясь там уже навсегда. Невольно вспоминается другая знаменитость — «Сикстинская» Рафаэля, где Мадонна является зрителю из распахнувшихся завес, делая его сопричастным чуду. В Новгороде именно так и происходит: выходишь из однообразных скучных жилых кварталов, закрывавших Кремль, ничего не подозревая и не ожидая, и вдруг замираешь. Что это? Кто поставил здесь это диво? Грузности, тяжеловесности как не бывало. Откуда взялась эта пластичность, гармония? Не Греция, чай, не Рим. Но и здесь знали «золотое сечение», эти невидимые волшебные линии, уравнивающие верх и низ, из каких бы противоречивых объемов они ни состояли. Увидев собор, не хочется ни размышлять, ни анализировать, только смотреть. Уж не сон ли это?
Я имел возможность проверить свое впечатление, когда однажды был в Новгороде со спутницей. Она точно так же остановилась и несколько мгновений стояла, как вкопанная, не говоря ни слова. И после этого — по пути к собору — молчала или отвечала невпопад.
Надо сказать, что это тайное знание соразмерности, гармонического начала воплотилось и в других новгородских постройках — небольших одноглавых церквушках, находящихся в разных концах города, непонятно, как сохранившихся в тех местах, где всё другое было уничтожено. Вдруг наталкиваешься на них среди угнетающе унылых современных скороспелок, останавливаешься, а потом — продолжая путь — еще долго несешь в себе подаренный образ. Псковские церкви тоже таят в себе грандиозный замысел автора, высокое мастерство, там тоже думаешь о великих и неизвестных архитекторах, но псковская архитектура все же на излете, с некоторым изъяном, усталостью, там лишь какая-то часть тайны, полной мерой явленной в Новгороде. Она вся осталась там, в первом и последнем вольном городе древней Руси, волшебство не повторяется. В более поздних постройках — Москве, Владимире, Ярославле, Ростове Великом — тайна вообще исчезает. Ее место занимают изощренность и украшательство.
Новгород Великий — потому что в нем Великая София. Но есть загадка еще и другого рода: я много раз фотографировал собор, искал разные ракурсы, все напрасно. Ни один снимок не передавал даже крошечной доли подлинного впечатления. На первый план собор выставлял свою громоздкость и нелепость, как бы защищался ими. Не давалась София холодному взгляду объектива, ее надо видеть наяву, непосредственной, живой, глаза в глаза. Такой же живой, какой она оставалась всю тысячу лет, и предстает сейчас перед нами.
Боль
Настоящей книги о больнице и больном нет. Ее в принципе быть не может. Есть только взгляд со стороны, есть великие произведения на эту тему, но книгу должен написать сам больной, в момент немыслимых испытаний, ибо, когда они пройдут, благодарность стирает, уничтожает память о страданиях, но кто думает о них, когда они исчезают?
Палата реанимации. Женщины плачут, мужчины рычат и матерятся, всем одинаково плохо. Сюда привозят больных после операции, опасность миновала, осталась только боль. Но именно она и становится опасностью. Набрасывается неожиданно, терзает человека, рвет измученное тело, а человек даже не может метаться, не может движениями обмануть ее, слабость отняла все силы. Он лежит на спине, неподвижен, видит над собой лишь белый квадрат потолка. От постоянства картинки та делается живой, агрессивной, давит на него. Появляется ложное чувство, что именно в этой агрессивности источник его несчастий. И тогда он срывает с себя все питающие трубки, освобождая, как ему кажется, тело от оков. За этим следят, а если случается, запястья больного привязывают бинтами к продольным балкам кровати. Это приводит на память античную позу, античный сюжет. Так распят был, наверное, Прометей. Невозможные мучения на этом фоне воспринимаются как нечто естественное и неизбежное
Конечно же, есть великие примеры передачи этого жестокого состояния человека. «Смерть Ивана Ильича» кончается протяжным, заполняющим весь дом криком «У! У! У!». К концу жизни Иван Ильич прозревает, понимает, как измучил близких. У него появляется жалость уже не к себе, а к ним, но верить этому нельзя, это литература, выдумка Толстого-моралиста. Испытывать боль и думать, морализировать — это вещи несовместные. Крик нельзя наполнить смыслом, облечь в слова. Боль — беспощадный смерч, сметающий все мысли и чувства, ведь недаром ей порой предпочитают смерть. Самые высокие моральные ценности отступают перед ней. Зная это, военные уставы ряда стран разрешают своим солдатам, попавшим в плен, раскрывать самые страшные государственные секреты — лишь бы те избежали пыток.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу