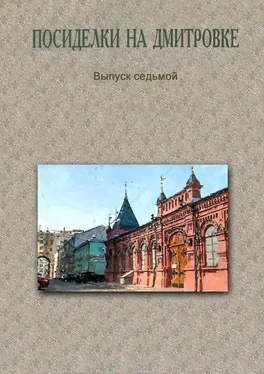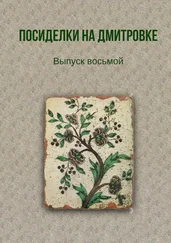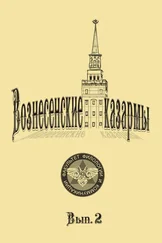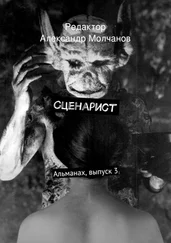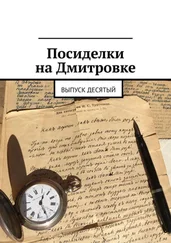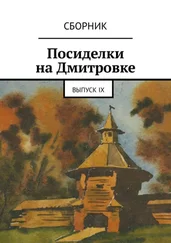Мы познакомились, разговорились. Оказалось, что три из них из Канады, украинки. Там живет многочисленная украинская диаспора. Четвертая женщина из их компании была русской, живет в Америке. Все они дети войны, в свое время были вывезены еще малолетними в Германию, откуда сразу после войны попали в США, а оттуда в Канаду. Вот только Валентина (а это была именно она) осталась в Америке. Попала туда с матерью в возрасте восьми лет, попривыкла, так там и осталась.
Новые знакомые рассказывали о себе и своих судьбах еще долго, но, подустав от нахлынувших воспоминаний и разволновавшись, ближе к полуночи откланялись и поспешили отдыхать в свои каюты, оставив нам Валентину, до этого долго молчавшую, сосредоточенную. Она просто и доверительно поведала нам с подругой свою историю. Так мы узнали про зверство фашиста, покалечившего ей руку, про раннее сиротство, бабу Настю, угон ее с другими детьми в Германию и многое другое. Рассказала много интересного про свою жизнь в Америке, к счастью, оказавшуюся вполне благополучной — выучилась на медсестру, работала в госпиталях в Лос-Анджелесе, там же вышла замуж за парня из Украины, сына одной из ее хохлушек-подруг. Помогли ей в Америке и с покалеченной рукой, поставили на правую руку хороший протез, гибкий, эластичный — почти бесплатно, как бывшей узнице концлагеря. Так что всё нормально, и жизнь продолжается — улыбается Валентина Петровна. Воспитала дочь, но та давно уехала из США и теперь живет с мужем Василем в Киеве, куда она, Валя, старается ездить раз в год уже к внукам. Вот потому она на теплоходе. Скоро остановка в Киеве, там она и сойдет.
— Жаль, что мама Алевтина давно ушла из жизни и не может теперь порадоваться правнукам. Но вот, живу за нее, — грустно повествует Валентина Петровна. — Так вот сложилась моя жизнь, теперь поздно что-то менять. У меня есть домик, муж, хозяйство. В общем, пустила корни в чужой земле, куда ж теперь. Значит, такая моя судьба и, пожалуй, я ни о чем не жалею. Кто знает, что бы меня ждало на Родине в то время…
Расстались мы с ней уже далеко за полночь, тепло и душевно, как добрые и старые знакомые — очень по-русски.
Утром был Киев. Она сошла на берег, спеша на свидание с дорогими ей родными.
Удивительная это штука — жизнь. Загадывай, не загадывай, а все равно она вырулит, куда ей положено — в свою «колею».
Добра тебе и счастья, Валюша — Валентина, хорошей тебе колеи-дороги…
София
Это воспоминание возникло после того, как я прочитал реплику Анны Ахматовой в «Записках» Лидии Чуковской:
— Новгородская София, — сказала Анна Андреевна, — тоже очень хороша.
Забыл, с чем ее сравнивала, запомнилось только, что собор был поставлен в ряд с другими сооружениями, пусть на высокое, но не исключительное место. Как же так? Это самая старая сохранившаяся постройка на Руси и самая совершенная по красоте, гармонии, античной соразмерности частей. Нет примера ей в древней русской архитектуре, а есть ли в новейшей мировой, пусть даже светской, — не знаю.
Впрочем, Ахматова Софии не видела. Трудно предположить ее непосредственную реакцию… Она не была в Новгороде, знала собор только по снимку, рисунку, но снимок не только не передает замысла, а затемняет, искажает его. Смотришь — простое, безыскусное здание, да еще грузное, приземистое, грубое. Невпопад поставленные апсиды, полукружия которых вдруг прерываются остроугольной кровлей, а то и скатом, при этом видимый край кровли кажется бездумной забавой ребенка, в руки которого попал карандаш. Сами полукружия разновелики, три главы расположены кучно, две поодаль, в общем, никакого художественного решения. Рядовое культовое сооружение, не часто поминаемое в архитектурных монографиях.
Понятно: Софийский собор не отнесен к древним памятникам мировой архитектуры. России там вообще нет. Афинский Парфенон, римский Колизей, Кельнский собор, собор св. Петра — там-то запредельное искусство, безусловная гениальность, от которой кружится голова. С ними ли равнять скромное и простое новгородское сооружение? А тут еще исторические изыскания — образцом-де для него послужила киевская София, а та в свою очередь взяла за основу византийские образцы, за что ценить?
Все так. Ну и что? Какое дело — признание? Можно обойтись и без него. Да и такое ли прямое подражание? В Византии главы церквей были круглые, этакие чуть сплюснутые полушария, в России появились остроугольные макушки (с крестами). Зачем? Чтобы снегу было удобно съезжать с них. Лишнюю деталь тоже надо было умело вписать в канонический образ, сделав родной, естественной, ведь менялся весь замысел храма. А такое рядовому, посредственному архитектору не под силу.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу