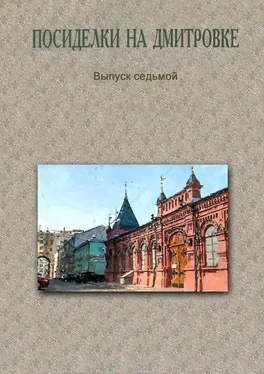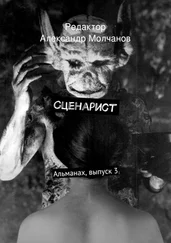Марья Дмитриевна бывала в светских домах, писатели и артисты с чувством целовали ее сморщенную руку — ту самую, которая еще недавно тянулась за подаянием. Когда седой благообразный швейцар в ливрее помогал бабушке снимать верхнюю одежду, она не знала, куда себя деть от стыда.
— Што ты, што ты, Господь с тобой, — отбивалась от него сконфуженная Махонька. — Мы ведь, бажоный, нищие…
А когда узнала, что за хранение одежды принято давать чаевые, сама стала подавать со словами: «Прими, Христа ради!» — и по-детски переживала свою радость.
А какое удовольствие доставляли ей прогулки по городу! Всю жизнь сказывала она о Москве белокаменной, сказочной, златоглавой — и все здесь открылось для нее в живом блеске красок, звуков, в живой вещности предметов, которых можно было коснуться рукой. («Уж правда каменна Москва: дома каменны, земля каменна. Ивана Грозного своими глазами видела (портрет Репина), и где Скарлютка (Малюта Скуратов) жил — тоже знаю. Это не врака какая, а быль бывала». ) Она испытывала горячее волнение, как всякий человек, увидевший реальное продолжение своих фантазий и снов. Она видела гробницу Грозного в Кремле, нашла даже могилу одной из его жен — Марьи Темрюковны, о которой сказывала в веселой скоморошине.
«В Питере господа, а в Москве — русские»
«Питер — это совсем-совсем не Москва», — отметила про себя Марья Дмитриевна, когда перед ее носом распахнулась дверь роскошной гостиницы с отдаленным гулом оркестра в глубине, множеством мягких кресел красного дерева и позолоченных зеркал, в которых плыли и двоились отражения входящих и уходящих лиц, шинелей, меховых воротников, фраков, лакированных полусапожек. Разноголосая, но какая-то чужая, отталкивающая суета захлестнула ее с первых минут пребывания в северной столице.
Вовсю крутила поземка, когда Озаровская с бабушкой взяли извозчика, чтобы ехать в концертный зал Тенишевского училища — как считалось тогда, самого передового в стране учебного заведения, где классовые и религиозные различия никого не трогали, где ученики почти открыто курили, щеголяли иностранными словечками, формы не носили, презирали всяческие авторитеты и где вовсю царствовал спорт, особенно футбол и теннис. Заправлял этой вольницей рыжебородый, огненного темперамента прогрессист Владимир Васильевич Гиппиус, кузен знаменитой символистки.
Пока Махонька сдавала одежду в гардероб, пока причесывалась и прихорашивалась, приметила стайку гимназистов, прятавшихся за колонной от учителей. Несколько случайно услышанных фраз неприятно кольнули ее.
— Что здесь такое, не знаешь? — спрашивал один из них.
— Да вот… старушку-нищенку, говорят, какую-то привезли.
— Ни-щен-ку?! Это зачем?
— Петь, говорят, будет или прорицать. Толком еще не знаю.
— Это что… явление вроде Гришки Распутина?
— Говорю, не знаю. В Архангельской губернии ее откопали, прямо с паперти взяли.
— Вот дураки! Ну и побиралась бы себе! Нам-то она зачем?
— Ну как же… для общего развития. Для познания, так сказать, на-цио-наль-ных корней.
— Может, сбежим, а?
— Сбежать всегда успеем. Сначала поглядим.
— А где она?
— А вот я вся тут и есть! — выступила из-за колонны махонького росточка старуха в синем повойнике и с рассерженными глазами. — У-у-у, оглоеды!
Мальчишки оторопели на миг, фыркнули и с хохотом разбежались.
В концертный зал прибывали целыми классами учащиеся петроградских школ и гимназий. По недетски серьезным, напряженным личикам и аккуратно разглаженным белым кружевным фартучкам можно было судить, что дамы-патронессы провели воспитательную работу задолго до концерта. Другие дети — из реальных и коммерческих училищ — одеты были попроще и вели себя свободнее — рассаживались где попало, перекидывались шутками. Но и они как-то поутихли, когда в зал повалили «хозяева», адепты вольного тенишевского воспитания. Бабушка через щелку в занавесе узнала недавних своих знакомцев-«оглоедов»: подгоняемые учителями, засунув руки в карманы, они шли по проходу, выискивая свободные места, и лица их, как бы пресыщенные знаниями, выражали снисходительную скуку. Благовоспитанные барышни открыли по ним беглый огонь глазками.
Марья Дмитриевна почувствовала, что зал словно вышел из подчинения. То ли «оглоеды» тому виной, то ли общая атмосфера сухой чопорности и апломба, но что-то разладилось в ее контакте с публикой. Не было доверия, чистоты помыслов, здорового любопытства у этих гимназистов и гимназисточек, которых созвали сюда как в кунсткамеру, чтобы поглазеть на старое чучело из бог весть каковских времен.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу