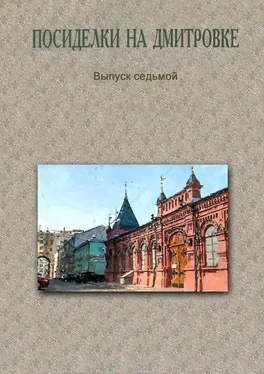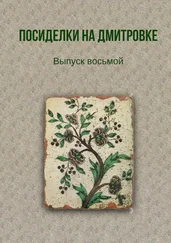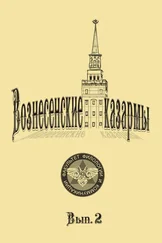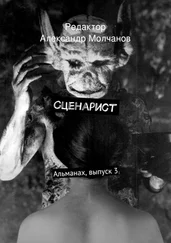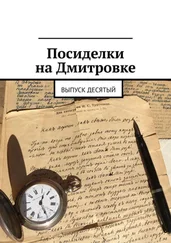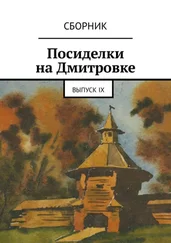— Тебе, Алексей, удалось поставить в свой строй грозного и сильного бойца — пугающую врага неизвестность. Ничем иным не объяснить остановку немцев перед Химками. Страх перед «подарком», который затаил завод, напрягал их и пугал. Решили пойти другим путем. Но и тут их ждал отпор…
Более семи десятков лет назад была закончена Великая Отечественная война. Но и до сих пор влечет к себе то время. Хочется разобраться поглубже, без обиняков, увидеть то или иное событие с разных точек зрения, чтобы полнее и справедливее оценить свершившееся.
Отец ушел из жизни сорок с лишним лет назад. Теперь вижу, как мало мне пришлось поговорить с ним, будучи уже взрослым человеком. С чего бы начала наш разговор? Да хотя бы с медалей «За оборону…». Их во время войны было учреждено семь: за оборону Ленинграда, Сталинграда, Одессы, Севастополя, Кавказа, Советского Заполярья, Москвы. И если первые шесть вручались вскоре после боев, схваток, побед, то последняя — «За оборону Москвы» — через 27 месяцев после окончания боевых действий: по Указу Президиума Верховного Совета от 1 мая 1944 года. Чем была вызвана такая задержка? О каком вопросе спорили? Почему не могли столь долго договориться?
Думаю, такая отсрочка была неспроста. И касалась она именно времени противостояния под Москвой. Вспомним и проанализируем (насколько позволяют нам знания неспециалиста, но весьма заинтересованного человека — так я мыслю о себе), что это был, пожалуй, самый тяжелый и судьбоносный период в истории Великой Отечественной войны. Как для уже довольно измотанной в наступательных боях фашистской армады, так и для отступающих частей Красной Армии. Особенно именно для наших войск, потерявших в боях практически всех бойцов и большинство офицеров, подготовленных к военной службе еще в мирное время. Красная Армия потеряла не только численно, но был нанесен страшнейший удар по моральному духу войск. Красноармейцы, настроенные предвоенной пропагандой, что «своей земли ни пяди не отдадим», с начала военных действий вдруг покатились по этой земле-матушке на восток, вглубь страны. Не в силах остановиться. Зацепились только на последних рубежах в нескольких десятках километров от столицы нашей Родины. И вдруг пришло внутреннее ощущение, что отступать некуда — впереди Москва. Именно тогда были отданы приказы такие, как получил отец «действовать по обстановке, ответственность на вас». Приказы отдавались не только военным, но и гражданским лицам. Таким образом, были поставлены в единый строй, кроме кадровых военных, десятки, а скорее сотни, тысячи защитников. Им не была предоставлена Живая Сила. Но им удалось навстречу фашистам выставить Неизвестность, Угрозу, Страх Неопределенности. Этими невоенными ухищрениями продержались с 16 октября до подхода полков сибиряков, которые прибыли накануне 7 ноября 1941 года на парад и сразу же на фронт. И может быть именно оценка военных успехов этих невоенных людей была предметом раздумий Верховного Главнокомандования: каков должен быть критерий, если порой не было людских потерь, но была выполненная военная задача?
Но отца нет. И сверить не с кем правильность (или неправильность) моих догадок — открытий.
И ещё бы я спросила: не боялся ли он везти своего ребенка в то небезопасное путешествие? Война, путь в сторону фронта, всякий день грозит чем угодно, но только не спокойствием. Что бы он ответил? Не мог же он сказать «Значит, Бог уберег»! Но я благодарна отцу, что решился он на этот поступок и продемонстрировал мне еще одну сторону военного противостояния, показал, какие бывают бойцы. Не только в защитных гимнастерках, но и в пиджаках учителей, в старушечьих платках, телогрейках, в допотопных лаптях и валенках. Разные были бойцы. Разнообразны были их военные таланты и умения. Общее было одно — желание победы и невосполнимая плата за эту победу.
«Беззубая старуха, диво лесное…»
Есть дом на окраине северного поселка Пинега. Скромные занавески на окнах, скромные цветы за занавесками, стены, обитые вагонкой, — пройдешь мимо и не заметишь… Здесь сто лет назад московская артистка, собирательница фольклора Ольга Эрастовна Озаровская впервые встретилась с крошечной старушкой-нищенкой по кличке «Махонька».
Весь июнь 1915 года Озаровская ходила по пинежским деревням, перебиралась из дома в дом, толковала со старухами — нет ли у них песен, былин, заговоров? — и самое интересное записывала в тетрадь или на восковой валик фонографа. Чего только не встретила она на пути! И все же жадность исследователя, смутное ощущение, что она ходит вокруг до около настоящей «жилы», не давали ей покоя. Хотелось встретить что-то редкостное, диковинное, первозданное.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу