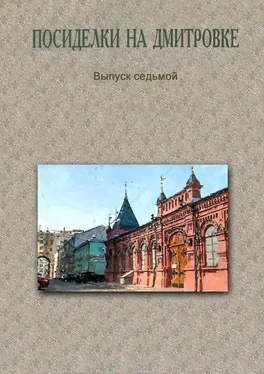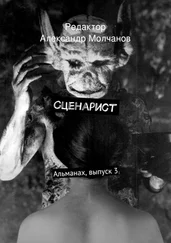В доме Лысёнковых меня ждали, а я искала глазами Галю и Валю — моих довоенных подружек. Но бросилась ко мне их мама — тетя Таня, стала обнимать и гладить. И всё говорила и говорила, объясняя про устройство военного быта: полати, нары, несколько столов, сложенные один на один сундуки. «Все разместились! Это главное!» — приговаривала тетя Таня. Тут уж я увидела моих подружек. Они вытянулись и держались очень скованно. Подошли, только когда разрешила тетя Таня. Меня окружили и взрослые, посыпались вопросы: «Москва стоит?», «Много домов погорело?», «Ночью ходить можно?», «Машины ездят?», «А что есть в магазинах?»
…Пришли папа и баба Дуня. У бабы Дуни в руках — бутылка водки, у отца свёрток, аккуратно завернутый в газету.
И вот уже стол собран. Женщины, дети сидят вокруг, каждый со своей тарелкой, стопочкой, тетя Таня Лысёнкова вынимает из печи чугунок с картошкой, баба Дуня разливает взрослым водку, режет на маленькие кусочки хлеб, который привезли мы с папой, да раскладывает московские гостинцы. В сорок третьем оставленным в Москве офицерам стали изредка (наверное, по важным датам) выдавать праздничные заказы. Уже тогда я услышала название «Улыбка Рузвельта». Стало быть, были они из ленд-лиза — американской помощи. Привозил их отец из Военторга. Когда в первый раз поставил на стол большую коробку, вся семья собралась вокруг, и началось «действо»: острым ножом разрезали упаковочный картон, вынимали ранее невиданное: тушенку, сгущенку, а самое главное — небывалую банку. Она и сейчас стоит у меня перед глазами: примерно граммов в 800, вытянутая вверх, имеющая в разрезе прямоугольник с закругленными углами. Сбоку банки закреплен был ключик, в который пропущен кончик жестяной ленточки. Вскрывать надо было, накручивая ленточку на ключик. Когда крышечка отсоединялась, перед глазами появлялась ветчина необыкновенной красоты, умопомрачительного розово-съедобного цвета и манящего запаха.
Беседа за столом была невесёлой: тот мужик не вернулся, на этого пришла похоронка, кто—то из ребятишек подорвался на мине, другой остался без пальцев. Спрашивали отца о родных: не встречались ли. Не встречались: летчиков в деревне не было, а отец был авиатор. Отец стал расспрашивать, как, кто, когда сжег деревню. Этот вопрос поверг в полное смущение женщин за столом. Папа, видно, хотел немного разрядить обстановку, заметив, как удачно приключилось, что самый большой дом остался цел.
Помню, тетя Таня подвела черту:
— Так мы ж, Алексей, договорились… — потом повернулась к бабе Дуне: —Ты что ж, Боровчиха, ничего не сказала Алексею? — И все за столом замолчали. (Боровчихой бабу Дуню обычно прозывали за глаза, а впрямую — в знак укора.)
…В тот день мы с подружками все-таки прошли по деревне, аж до Шани-реки, что текла от Полотняного Завода и впадала в Угру. Начиная наш путь, я лелеяла надежду, что какой-либо дом остался незатронутым огнем. Но нет! Чудес, оказывается, не бывает! Так мы и двигались по неезженой тропе, а гиды мои поясняли, указывая на кучи кирпичей, да развалы угля: «Хозяйство Ломтевых», «Усадьба Чернобровывых», «Дом с липами». Но не было никакой усадьбы, хозяйства, дома. Слабо выраженная дорога (некому было утоптать ее) обрывалась на берегу Шани. Мы повернули назад и шли по деревне, если можно это было назвать деревней: землянки по сторонам, вырытые рядом с родными пепелищами. И прошлогодний бурьян, вплоть до небольших огородиков, что разбиты были на месте прежних. Чувствовалось, что сил обработать их у людей не было.
После обхода мы разошлись. Я вернулась домой, когда разговор у Федосеевых в их новом доме уже шел…
— Значит, повезло, что целым остался самый больший дом, — с какой—то необычайной осторожностью говорил отец.
— Почему — «повезло»? Мы все сами решили… А когда ОНИ жгли, стояли и плакали. Тушить-то не разрешалось.
— Так в чем было везенье, мама?
— В других-то селах и об одном доме не смогли упросить. Жгли всё подчистую.
— Да кто жёг-то? — я почувствовала в голосе отца невероятное напряжение.
— Как кто? Красноармейцы! Последние отступающие части… Говорили «приказ»! Говорили: нечем более фашистов остановить… А нам-то как быть? Как было жить?
Мне послышались в голосе бабы Дуни не только боль, но и укор… А она все говорила:
— Люди, жители, стало быть, оставались на морозе. По освобождению наше военное начальство говорило, что политика была правильная. У немцев земля под ногами, мол, должна гореть. Но, Леша, наших людей в живых оставалась половина села. Женщины да дети. На морозе стояли. Мы кинутые были… Но, — и голос ее зазвенел, — и вправду: подкормиться немцам не дали.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу