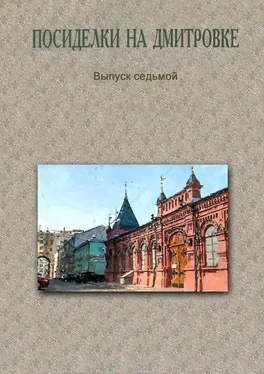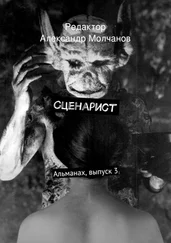Хорошо бы собственным домом зажить, да внуки еще малосильны — не выдюжат. Вот это и заставляло ее оставаться в семье зятя. «Бабкины гонорары» пробуждали в нем хищное внимание: все спрашивал, кому она свои капиталы отпишет. Да и безлошадный он нынче, а это, по-деревенски, вроде как и не мужик. Марья Дмитриевна слишком доверчива и полна желания делать людям только приятное. Кто попросит в долг — никому отказа нет: «Бери, бери, бажоный! У меня деньги шалые…» Привезенные из поездок вещи постепенно перекочевывали в чужие сундуки.
— Проведет свое богатство, непременно проведет! — шептали Озаровской соседи-доброхоты. — Опять будет кусочки просить.
Но чем могла помочь Ольга Эрастовна? Научить бабушку бережливости, кротовой расчетливости, умению извлекать выгоду из людских отношений? Можно ли ждать этого от «народной артистки», от широкой натуры? Да и что может сравниться с великой радостью давать и дарить, когда ты всю жизнь только надрывался и просил!..
Тяжкая жизнь наступила для Марьи Дмитриевны в годы гражданской заварушки. И все по вине зятя. Нальет зенки в кабаке, наорется, напляшется — и давай пугать ребятишек. А утром, как проспится, сразу к ней: давай, бабка, на опохмелку! И так к нему, и эдак — с крестом и молитвой: «Образумься, Кирилл, пожалей себя и деток! Не ровен час по миру пойдут». Да куда там! Чуть что не по нраву — сразу кулак с матерщиной. И не столько пьет, сколько куролесит и измывается. Потом и грозить стал, аспид: «Неча у меня тут кости греть, старая брякалка! У нас у самих пять ртов…» Недаром мужики его Когтем прозвали.
Вытряхнули из старухи все вещи и денежки, и стала она никому не нужна — ступай, бабка, на все четыре стороны!
Пришлось Махоньке после всероссийских триумфов, богатства и деревенской зависти снова пойти по миру с сумой и посохом в руках. Опять стала жить как придется, а ночевать — где застанут сумерки. Тут уж, прости господи, не до удобств: маленький костерок на опушке, горсть сухарей, большая черная кружка для кипятка и охапка соломы под бок. Каждый кустик ночевать пустит.
Снова лесные дороги. Снова несмолкаемый шелестящий дождь, нехоженые грязи, бедовые беды. Чего только в пути не случалось! И волчьего воя наслушаешься, и на собак управу не найдешь, и от лихого человека обиду стерпишь…
Летом 1923 года Марью Дмитриевну навестил американский журналист Альберт-Рис Вильямс. Конечно, не ради нее он отважился на столь дальнее, с четырьмя волоками, путешествие. Вильямс был молод, по-репортерски честолюбив. К Марье Дмитриевне журналист пришел по просьбе Озаровской, которая постоянно в письмах справлялась о ее здоровье. Беглые заметки американца — последнее письменное свидетельство о жизни Марьи Дмитриевны Кривополеновой.
«И вот из маленькой дверцы маленькой бревенчатой хижинки вышла маленькая старушка — больше восьмидесяти лет, наверное, и невесомая на вид. Точно из волшебной сказки вышла. Но она не обладала волшебным могуществом и была в искреннем отчаянии, что ей нечем угостить меня: в доме даже хлеба не было.
— Ты меня песней угости, бабушка. Я только за тем и приехал, — сказал я.
— Вот и хорошо, батюшко. Петь я тебе хоть до вечера буду.
И тут же начала мне былину об Илье Муромце, при богатыре Владимире Красном Солнышке…
— Неужели вы не устали? — спросил я ее после того, как она полчаса сказывала о подвигах Ильи.
Она даже не ответила мне, она не слышала моего вопроса: она была уже не в этой бревенчатой хижине, а в далеком Киеве-граде, она слышала звон колокольный с башен киевских, она мчалась с Ильей по полю бранному. Она была вся захвачена своим искусством — истинная артистка с превосходно поставленным дыханием. Голос ее, хоть и ослабевший к восьмидесяти годам, был крепок и ясен…»
…В тот день деревню наглухо замело снегом. Махонька вышла от знакомых, где заболталась за вязаньем, и как ни уговаривала ее хозяйка, что поздно и мороз на дворе, заторопилась к себе домой. Идти было недалеко, но что-то ноги не слушались, и голова кружилась — то ли от погоды, то ли от недавней болезни. Вдруг Марья Дмитриевна оступилась, боком повалилась в снег. И такая немощь на нее нашла, такой страх — кричи, не докричишься. Сквозь смерзшиеся ресницы она пыталась разглядеть тропу, но в глазах стоял пепельный мрак, заложило уши. Проваливаясь по пояс в снегу, почти в беспамятстве доковыляла она до первой, стоявшей на отлете избы и постучалась в дверь…
О последних часах жизни великой сказительницы сообщил Озаровской один из местных жителей: «Мы сидели в доме, как вдруг услышали стук в дверь. Это Марьюшка просилась на ночевку. Почти совсем слепая и глухая, она занемогла и легла на печь в сильном жару. В бреду она затянула любимую былину и, пробудясь от собственного пения, очнулась. Увидев, что сидят все любители ее старин, она уже сознательно стала петь и все пела, пела… вплоть до агонии, когда за ней приехали сродники».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу