Проходит несколько часов, пока поезд разгружают. Раненых перекладывают на носилки, женщин и детей рассаживают на сани. Убитых отпевают тут же. И хоронят в наскоро выкопанных могилах прямо рядом с насыпью. Командование берет на себя высокий сухопарый майор. Седлают лошадей, и небольшой отряд выдвигается на разведку.
От ужаса или холода — я не понимаю — меня бьет озноб. Леднев замечает это, находит место в санях, снимает шинель с убитого солдата и накрывает меня. Пока из спальных вагонов выносят еду и вещи, из теплушек выгружают какие-то ящики. Много ящиков. Из них снаряжают отдельный обоз.
Вокруг нас дремучий лес, дневной свет едва пробивается через слой снега, покрывающий ветки деревьев. Наш караван растягивается на пару километров. Мы пробираемся по дороге, прорубленной в тайге, от деревни к деревне. Я не выпускаю ящики из поля зрения: как их охраняют, когда сменяются солдаты, кто из офицеров их сопровождает. По вечерам они спят и едят отдельно от всех из-за начавшейся эпидемии тифа.
Через пару дней похода мы останавливаемся около реки. Она не замерзла, течение несет льдины по черной воде. Нужно переправляться, другой дороги нет, местные проводники говорят, что никогда не ходили зимой в деревню за рекой, им было без надобности.
К ночи мороз усиливается. Я выбираюсь из саней, меня трясет от высокой тифозной температуры, но я стою на берегу вместе с сотнями людей, и мы смотрим, как соединяются льдины.
Алексей по-прежнему то ли следит за мной, то ли приглядывает. Подкармливает, разговаривает, старается устроить меня поудобнее. Я прошу достать мне лошадь, объясняю, что не люблю телеги, меня укачивает. Он молчит. Я проваливаюсь то в сон, то в беспамятство.
Мне нужно обогнать эту медленную, неповоротливую, разрозненную толпу. Из-за нее я все дальше и дальше от цели. Золотой запас генерала Бойцеховского и так не идет ни в какое сравнение с тем эшелоном, что уехал далеко вперед. Я не могу упустить и его.
На вторую ночь река наконец покрывается корочкой льда, и под утро первые упряжки осторожно переходят ее. Все напряженно вслушиваются в треск льда.
Крестьяне в деревне за рекой принимают нас радушно: белые за все платят золотыми и серебряными монетами с профилем императора. Алексей находит мне место в избе на окраине, нам накрывают стол.
Есть я не могу — еда не лезет, пью понемногу воду с комками снега. Леднев топит печь и то носит мне одеяла, то выводит на воздух. Меня бросает из жара в холод. Выбившись из сил, Леднев устраивается на печи рядом со мной, положив между нами мою трехлинейку.
Наутро снова в путь. Часть тифозных больных остается в деревне, но некоторые идут дальше и умирают в дороге — их приходится бросать на обочинах, наспех закидав снегом. Тифом болеет половина каравана. Чудо, что Леднев не заразился.
— Я один раз видел адмирала, — говорит Алексей. — Он был раздражен, вспылил, стал кромсать ручку своего кресла перочинным ножом, сломал несколько карандашей, — он тихо смеется.
— Чехи предадут вас… нас, — поправляюсь я, — нельзя останавливаться в Красноярске, надо обходить с севера.
Он не удивлен:
— Да, ходят слухи, что генерал Зиневич нас предал и перешел к социалистам. Но сдаваться нельзя. Поддаваться панике нельзя. Красные войдут в город только через наши трупы, — он словно заранее подводит итог.
Сколько ему? Двадцать шесть, может, двадцать восемь, а у него седина на висках, глубокие борозды на лбу. Мне хочется снять иней с его усов, взять в ладони его лицо и разгладить.
Я одергиваю себя: и он, и все они давно мертвы, все эти измученные, плохо одетые, замерзающие люди. Больше века они лежат в тайге, их одежда и плоть истлели. Вот они передо мной, до сих пор окончательно не сломленные, готовые сражаться. Поцелуют кто иконку Николая Чудотворца, а кто и портрет расстрелянного императора, висящий в крестьянской избе, и пойдут в бой. Но на самом деле они уже там, в небытии.
Я начинаю плакать — очень давно не плакала — и тут же стираю слезы с лица, чтобы Алексей не увидел.
— В Чите атаман Сахаров, нужно пробиваться к нему. Раненых и женщин переправим дальше — в Японию или Китай — а потом объединимся с атаманом, развернемся и ударим по красным.
Его разморило от тепла, и он засыпает сидя, откинувшись на бревна сруба.
Я выхожу на холод — проветриться. Впервые в жизни хочется закурить. Нужно проверить золотой запас, как раз должен был смениться конвой. Снова напоминаю себе: никого не спасти, надо думать только о миссии. Достаю часы — стилизованную под начало двадцатого века луковицу с хронометром, который показывает обратный отсчет до выхода, открываю — и вдруг вижу блеск металла на опушке леса.
Читать дальше
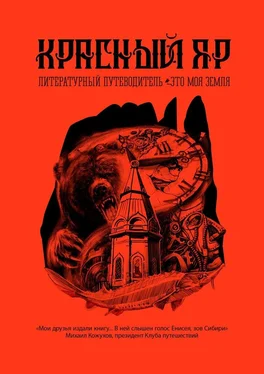

![Павел Ковалев - Красный ледок [Повесть]](/books/29080/pavel-kovalev-krasnyj-ledok-povest-thumb.webp)


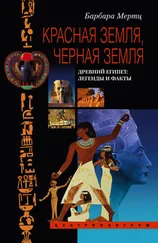
![Павел Боровец - Красный дракон [СИ]](/books/424781/pavel-borovec-krasnyj-drakon-si-thumb.webp)



