Спать?
Мама держит газету, плачет. Слезы капают на бумагу. Я слышу запах типографской краски. Помню, в детстве у меня были хомячки (у кого их не было), и я рвал им газету в клетки, чтобы сделать подстилку. Хомячки писали на газету, и краска точно так же пахла.
— Что ты читаешь? — спрашиваю. Ни одного слова в ответ.
Сажусь на кровати, кулаком растираю солнечное сплетение, как же болит. Моргаю: «При попытке установить рекорд в гипоксической маске в парке „Гремячая Грива“ погиб спортсмен…» — знакомое фото. Вместе, что ли, тренировались?
— Мам? Прекрати, мам! — хочу похлопать ее по плечу, рука проваливается в пустоту.
Где я видел это лицо с фотографии? Хочу лечь. Устал.
Тик-так.
Что за звук? Морщусь. Осматриваюсь. Люди — один за другим — бросают землю на гроб. Кого-то хоронят. На фото — то самое знакомое лицо. Вот бедняга, дотренировался. Подойду поближе, как его, кстати, зовут.
Что? Эй! Кого вы… кто у вас там в гробу? Я хватаю себя за плечи, за волосы. Щипаю себя, кричу. Я здесь! Я живой!
— Конечно живой! — доктор-женщина (точно женщина?) смотрит в мои зрачки.
Меняю куртку на теплую, с повышенной ветрозащитой. Надеваю темляки на сухие перчатки. И выхожу в рассвет.
Медитирую на смерть, на процесс смерти. Визуализирую тело, разделенное на части, подобно тому, как студент медицинского университета препарирует труп. Снимаю кожу с себя и вижу, что находится под кожей. Вижу слои плоти, сухожилия, кости, органы. Могу умственно отделить каждый орган от тела, чтобы исследовать и понять его.
Смотрю на учителя снизу вверх. Был ли он земным человеком?
— Спрашивай, не молчи, — он улыбается тепло, тихо.
— Давно ты ушел в монастырь?
— В девять лет.
— Сам?
— Нет, что ты. Родители. Да и было это не здесь — там, — неопределенно машет рукой, — где нет обратного пути в мир.
— А как ты оказался здесь?
— Я-то? Сбежал.
— Сбежал?
— Да. Познал женщину и сбежал. Там, где я постригся, познать женщину — смертный грех.
Бедный монастырь у небольшой деревушки. Монахов больше, чем жителей. Еды на всех не хватает. Мальчики-послушники каждое утро — с чашами — у деревни. Но жители — подают в основном слезы на завтрак.
Я тайком пробирался в огород, где рос батат, и, пригнувшись к земле, выкапывал его руками и черепками. Набирал полную чашу вместе с землей. Врал братьям, что батат дали на подаяние. Братья, зная, что я ворую — жители подают овощи чистыми — не спрашивали, ели молча.
— Мы не трогаем тебя, потому что ты монах, — я раскапывал очередную яму в огороде, взвился, в воздухе обернулся на женский голос. — Но мы голодаем тоже, зачем обираешь нас?
Я залился краской. Передо мной стояла девушка с глазами цвета утреннего тумана.
— Я… — я сказал, она вздрогнула, отшатнулась, но тут же широко шагнула навстречу.
— Не двигайся, — положила на мой лоб подушечки пальцев. Я зажмурился. Пальцы медленно соскользнули вниз, до подбородка.
— Ты видишь меня?
— Я вижу тебя руками. Слышу твой пульс.
Я бросил батат. Пришел в монастырь ни с чем. Лег голодным. Ночью залихорадило, бросило в жар. Я лежал и трогал себя за лицо, вспоминая прикосновения, вспоминая голос.
— Я вижу тебя руками. Слышу твой пульс.
Я вернулся к ней. Я познал ее.
Тик-так.
Ближе к финишу народа становилось все больше. Последний круг завершал в толпе сподвижников, как Форест Гамп. Секунды отсчитывали хором:
— Пять, четыре, три, два, один!
Странно стоять, когда мозг продолжает идти. Еще более странно давать в этом состоянии интервью. Цель достигнута.
На ватных ногах с закрытыми глазами иду к машине. Кто-то протягивает мне газету с моим фото на первой полосе. Машинально беру: «В парке „Гремячая Грива“ погиб…» Что? «В парке „Гремячая Грива“ побил…»
Рекорд.
Мама машет газетой и плачет от радости.
— Мама, не плачь! Ну? Лучше скажи, как там жена, дочка?
— Какая жена, дочка? Сынок… — и снова в слезы.
Молодой доктор с трехдневной щетиной и повязкой на запястье обнимает ее за плечи.
— Не волнуйтесь, мамаша! Это от нагрузки. Откачаем. Починим. Не волнуйтесь…
— Алиса, посчитай пульс!
— Пульс пользователя Ходок — сто девяносто ударов в минуту.
— Продышитесь, боец.
— Вот черт.
Скорее в гостиницу. Спать.
Кое-как принял душ. Выхожу из ванной. Напротив кровати — трельяж. Вглядываюсь в него. В себя. Натягивая на щеке кожу, приближаюсь. У меня, как и у доктора, клокастая щетина. От пара и дыхания в центре зеркала туман. В левом отражении улыбается седой монах. В правом — ученик в ярко-оранжевом кашая.
Читать дальше
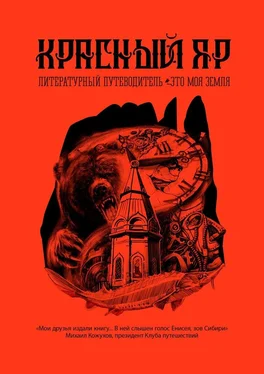

![Павел Ковалев - Красный ледок [Повесть]](/books/29080/pavel-kovalev-krasnyj-ledok-povest-thumb.webp)


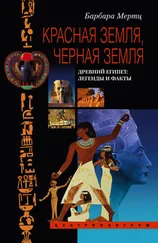
![Павел Боровец - Красный дракон [СИ]](/books/424781/pavel-borovec-krasnyj-drakon-si-thumb.webp)



