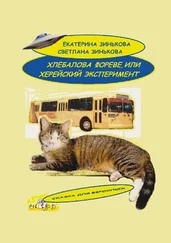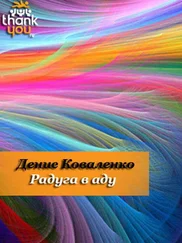Жизнь моя немного оживилась, когда я познакомился с Мишей Морозовым.
В один из своих однообразных вечеров, утупясь в землю, я шел по какому-то бульвару. Часто я вовсе не замечал, где я, который час, как, в конце концов, буду добираться домой. В такие минуты мне становилось на все наплевать. Временами я опускался на лавочку, делал несколько глотков дешевого портвейна — все, что я мог себе позволить, и то не каждый день — и брел дальше. Дойдя до конца бульвара, разворачивался и шел в обратном направлении. Сколько раз я проделал этот моцион, я не считал.
Давно перевалило за полночь. Бульвар потихоньку опустел, лишь редкие компании, парочки да бомжи. В полном отчаянии я сидел на лавочке, допивая последние капли портвейна. Мысли, размякшие и раскисшие, лишь изредка, точно икая, выдавали: «Ну… и… Что дальше?»
Ладонь уже трогала лавочку, готовя место для сна: спать я решил здесь же — опускаться, так по-настоящему.
— Здравствуй.
Я поднял голову. Передо мной с пакетом в одной руке и собачьими поводками в другой стоял мужчина лет сорока в белоснежной рубашке, с аккуратно зачесанными назад светлыми, тронутыми сединой волосами, благородно изогнутым тонким птичьим носом и почему-то печальными, даже унылыми, но очень беспокойными и болезненными глазами; скрытая неуправляемая сила просматривалась сквозь унылую пелену этих зеленых глаз.
— Сесть можно? — спросил он, поставив на лавочку пакет.
Я кивнул; впрочем, он этого и не заметил. Усевшись, он протянул мне руку.
— Будем знакомы. Миша Морозов, художник.
— Максим Кравченко, учитель рисования, — ответил я.
— Почти коллеги. Я почему-то так и думал. Еще ни разу не ошибся. Художник — он сразу виден.
— Потому что волосы длинные?
— Нет, волосы здесь ни при чем. Ты бы мог быть лысым, маленьким и плюгавым. Здесь дело в другом… А спроси меня в чем — не отвечу. Водку будешь? — Запустив руку в пакет, он извлек из него, как фокусник — зайца из цилиндра, поллитровку водки, открутил пробку, прямо из горла сделал пару глотков, чуть поморщился и протянул мне бутылку.
— Стакана нет?
— Нет стакана, нет закуски, одна тоска-а, — совсем уж безнадежно ответил он. Он был сильно пьян, голова его то и дело падала на грудь, но голос был на удивление ровен и чист.
— А отчего тоска? — спросил я.
— Оттого, что живу в этой стране, в этом городе. Оттого, что просто — живу.
— Это уже много — просто жить.
— Наверное, — охотно согласился он.
Ему хотелось выговориться. Он пил, видно, уже не первый день. Часто он невольно вздрагивал, словно вспоминая неприятное, замолкал, резко оборачивался, долго высматривая что-то или кого-то, или же вскидывал голову и так же пристально вглядывался в небо, затянутое густой июльской листвой высоких тополей. После таких резких пауз, часто возникавших на полуслове, когда пытался говорить я, он мгновенно перебивал меня и продолжал, высказываясь порою поспешно и громко. Вскоре я знал, что от него в который раз ушла жена; она молода, моложе его на пятнадцать лет, красива, умница, но все равно дура. Нельзя уходить вот так — забирать ребенка, трехлетнее зеленоглазое чудо со смешными косичками, которые он лично заплетал каждое утро, и уходить без всяких причин. Потому что то, что он пьет, — не причина, а обстоятельства. И то, что он не расписан с ней, — тоже не причина. Ей двадцать пять, ему сорок. И проблема даже не в этом… Проблема… Ну разве можно жить с таким человеком, как он, у которого и деньги не всегда бывают, и… собаки вот сбежали. То сбегал один Чико, а сегодня еще и Бой с Гарсоном…
Я слушал его вполуха. Мне и самому хотелось выговориться, про Оленьку рассказать, про школу. Мне неинтересно было слушать про сбежавших собак и молодую жену, которая ушла (хотя не должна была уходить) от человека, от которого просто нужно уйти. Мне уже не хотелось в это вникать.
Выговорившись, он замолчал. Мне почему-то сразу стало ясно, что больше я ему не интересен. Какое-то время мы сидели молча. Пока я наблюдал за его усталым и теперь равнодушным ко всему (и в первую очередь ко мне) лицом, всякая охота говорить у меня пропала.
— Ладно, счастливо.
Поднявшись, он протянул мне руку. Я невольно обиделся. Я перестал быть нужен, со мной прощались. При этой мысли я усмехнулся. Захотелось сказать что-нибудь колкое и дерзкое. Морозов стал мне неприятен. С какой-то брезгливостью, вяло я пожал его ладонь и опять брезгливо улыбнулся, прямо глядя в его равнодушное и, как мне показалось, такое же брезгливое лицо, точно ему самому было неприятно, что он вот так, целый час рассказывал мне о своей жизни и теперь стоит и для проформы (потому что принято) пожимает мне руку.
Читать дальше