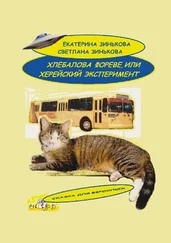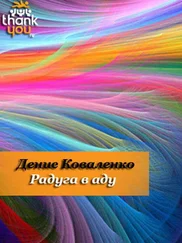Влад не тот человек, который был мне нужен здесь, в Москве. Он смел, умен, отчаян, обаятелен, сдержан, спортивно сложен, приятен лицом. Я же всегда был мнителен, нетерпим, сиюминутен; не красавец, но умел нравиться женщинам. Во мне были все качества порочного человека, к тому же я был болтлив, и там, где многие (Влад в их числе) терялись и считали, что гордость им чего-то не позволяет, я не терялся: мне гордость позволяла все. Часто я говорил Владу: «Влад, мы теперь живем в демократической стране. Тебя посылают на хуй, а ты идешь куда хочешь». Влад не мог себе этого позволить, он был гордый. Я — нет. И чем глубже я убеждался в его благородстве и порядочности, тем сильнее ему не доверял. Я вообще никому не доверял, а больше всего — людям, в которых видел те положительные качества, которых не чувствовал в себе.
Я нашел работу, ухаживал за миленькой секретаршей Оленькой — девушкой, на мой взгляд, странной, но симпатичной. Оленька помогла мне найти недорогую комнату в коммунальной квартире, принадлежавшую ее родителям. Правда, дальше этого наши отношения не двигались: все, что мне пока удавалось, — провожать ее из школы домой и в выходные гулять по паркам и центральным улицам Москвы, держась за руки; я даже поцелуя не мог от нее добиться.
Месяц, как Оленька развелась с мужем. Развелась, по-моему, из-за каприза, из-за пустого. Год она прожила с ним, как рассказывала, счастливо. Но полгода назад они попали в автомобильную аварию. Все обошлось, ничего страшного: мужа выписали неделей раньше, он навещал Оленьку ежедневно. Приносил фрукты, цветы… Когда Оленьку выписали, она сказала: «Я развожусь с тобой». «Почему?» — спросил я. «Он тоже спросил меня об этом, — ответила Оленька. — Но это же так просто: он не принес моего любимого плюшевого мишку, мне было без него грустно и одиноко». — «А ты просила его принести?» — спросил я. «Нет, — отвечала Оленька, — но он должен был догадаться, мы прожили вместе целый год. Он должен был почувствовать, что мне нужен мой плюшевый мишка. Дома я всегда засыпала, обнимая его». — «Но это… по меньшей мере… странно», — сказал я. «Нет, — отвечала она, — мы прожили год. Он должен был чувствовать мои желания». — «А ты его любила, мужа?» — спросил я. «Да, и до сих пор люблю», — отвечала она. «Тогда… я ничего не понимаю», — сказал я. «А люди, тем более супруги, должны понимать друг друга по одному взгляду», — ответила она и посмотрела на меня так, что стало ясно: далее она не желает говорить об этом. И я сделал вид, что все понял.
К слову, Оленьку я очаровал своей непосредственностью: уверенно вошел в кабинет директора школы, сумел убедить ее взять меня учителем рисования. Случилось так, что вот уже семь лет рисование в этой школе вел библиотекарь. И меня приняли на работу, хотя я не был москвичом. Оленьку это очаровало. В тот же день я переехал в комнату, которую ее родители собирались сдавать, но остерегались. Все произошло благополучно и быстро.
Чувствуя: скрывать, что я нашел комнату, опасно (все равно откроется, а самолюбие Влада вряд ли бы это вынесло; мне не хотелось выглядеть в его глазах предателем), — я сразу все ему рассказал и сразу, жутко сожалея, стал объяснять, что жить в этой комнате мне придется одному: Оленька, ее родители… Да — родители… Вот пройдет время, вот тогда… Влад молча соглашался. Но то ли видно было, что я вру, то ли… Словом, Влад все понял — понял правильно. Он сухо пожал мне руку, пожелал всех благ. Я вновь стал врать, горячился непомерно; самому противно стало. Простился я с ним с огромным облегчением, убежденный, что никогда больше его не увижу. После моих горячих объяснений, его сухого, сдержанного взгляда… Я его возненавидел. И был уверен, что он меня — тоже.
С первых дней нормального существования в столице я не сомневался, что теперь моя жизнь удалась. Но прошел месяц, а Оленька позволила поцеловать себя в губы лишь один раз, и то не всерьез. Мой день складывался из однообразной работы, за которую я получал копейки; большинство их уходило на оплату комнаты. Я уже ненавидел свою работу; впрочем, я и раньше не испытывал к ней особой любви и устроился в школу единственно потому, что в Москве любой учитель, да еще молодой и к тому же мужчина, был (к сожалению, образно выражаясь) на вес золота.
После уроков, если у Оленьки были время и желание, я провожал ее домой, шел к себе, проверял домашние задания учеников, готовился к следующему уроку и… не знал, что дальше делать! Тоска и безденежье доводили меня до того, что развлечения я находил во всем: гуляя, а точнее утомляя себя ходьбой, часами мог смотреть на мало-мальски заинтересовавший меня предмет, будь то дом, дерево, человек, — не важно: важно, чтобы глазу было за что зацепиться. Центр с его казино, ресторанами стал для меня ежевечерним местом времяпрепровождения. Я гулял и мечтал: мечтал о казино, где выиграю сразу кучу денег, мечтал о богатых женщинах, выходивших из ярких дверей супермаркетов или дорогих машин, мечтал соблазнить их, очаровать… Месяц, отчасти благодаря моей бесплодной возне с Оленькой, я лишал себя общения с женщинами, да и вообще… Единственным моим собеседником стал я сам. Я начинал презирать этот город, ненавидеть. Пожалуй, ненависть и помогала мне держаться. В глубине души я смеялся над этими расфуфыренными красотками, автомобилями, подаренными им толстопузыми пошляками, казино и ресторанами, похожими на павлиньи хвосты, с представительными тупомордыми швейцарами, стоявшими возле входа в эти птичьи задницы, откуда в вонючих клубах цветного дыма выходили куски дерьма, одетые в костюмы и вечерние платья… И все чаще вспоминал свой уже далекий, но именно сейчас ставший до боли родным город. Тоска, ко всему прочему, сделала меня сентиментальным, чего я раньше за собой не замечал.
Читать дальше