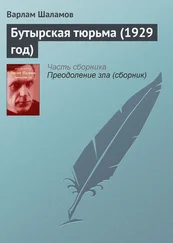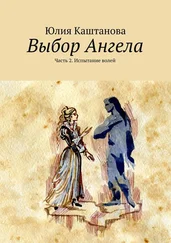В проходняке Петровичу (такое ему погоняло благодаря фамилии поначалу досталось), особенно зимой, когда в телаге [39] Телага (тюремн.) – телогрейка, бушлат, часть обязательного арестантского обмундирования, выдаваемого в местах заключения.
, уже сложно было: пробирался враскачку с кряхтением и вздохами. Ещё сложнее стало коцы [40] Коцы (тюремн.) – арестантские ботинки.
зашнуровывать. Когда он ради этого нагибался, сопел особенно натужно, и лицо свекольным цветом наливалось.
Разумеется, способность говорить сохранялась. Но и тут перемены налицо были. Весь его разговор на добрую половину своего содержания теперь теме еды посвящался. Да что там разговор! Вся его лагерная движуха, все поступки были исключительно с продовольствием и питанием связаны. Прежние арестантские приятели, с кем он ещё в Москве на Матроске общался, с кем по этапу шёл, с кем срок тянуть начинал, стали сторониться его, как неудобства. Потому, как весь разговор при всякой встрече в несколько совсем простых трафаретов без труда втискивался. «У тебя сахар есть? Насыпь чуток…». Или — «Говорят, тебе кабан [41] Кабан (тюремн.) – продуктовая посылка.
зашёл… Подбрось чего-нибудь…» Или «Ты прошлый раз салом угощал… Вещь! Отрежь ещё кусочек…»
И не столь уж далёкое вольное прошлое Володя Петров вспоминал теперь исключительно в определённом ракурсе. Про то, как в Москве при большом начальнике шоферил, каких знаменитостей близко видел, свидетелем каких разговоров быть выпадало, уже не рассказывал. Любой экскурс в долагерное прошлое к продовольственно-кулинарному аспекту неминуемо сводил.
С придыханием и причмокиванием.
Например, как некогда за сущие копейки в Госдуме можно было классно пообедать.
Какой экзотической снедью однажды в посольстве Малайзии накормили, когда он шефа с банкета дожидался.
Сколько шашлыка из отборной вырезки как-то осталось после пикника, куда он шефа возил (и всё это ему домой забрать разрешили).
Всё чаще повторялся в этих рассказах Володя Петров. Обычно дублировал сюжет, как в день, когда начальник на особо важном совещании надолго зависал, он предпринимал манёвр, казавшийся ему вершиной мудрой изобретательности. На этот день Володя отпрашивался у Шефа отбыть по семейным надобностям. Тогда же жене объяснял, что на работе забот выше крыши. Сам же ехал к матери, заранее попросив нажарить к его приезду котлет.
Не раз мне приходилось быть тем, на кого Петрович в очередном приступе откровенности вываливал булькающие желудочным соком подробности былых обжорных торжеств.
— Понимаешь, — понижал он голос до трагического шёпота, — приезжаю, а они… в сковородке шкворчат… Котлеты… Фарш пополам из свинины с говядиной… Запах ещё от лифта… Я сразу за стол… Одну, вторую, третью… Вкусно…
Здесь он почему-то делал круговое движение кистью руки. То ли очерчивал контур той самой сковородки. То ли воспроизводил траекторию перемещения котлет.
— А гарнир?
— Зачем гарнир? — удивлялся, не замечая никакого подвоха, Володя, — их же много, они… вкусные…
— Ну, а потом? — иногда у меня не получалось остановиться.
— Потом ложился… Спал часа три… Мобильник отключал… Телефона квартиры матери не знал никто… Красота…
И снова лучилось несказанным удовольствием лицо Петровича, снова без устали ходил его кадык, едва справляясь с то и дело наполняющей рот массой слюны.
Разговаривать с ним тогда ещё было можно. И слушать его тогда было ещё не в тягость. Потом со всем этим стало сложно.
Удивительно, но при своём почти религиозном отношении к еде, казённой арестантской пищи Володя почти не употреблял. Обходился лагерным ларьком, посылками из дома и щедротами семейника — в недавнем прошлом фермера из местных, которому справный харч в зону по зелёной шёл. Разве что полагавшиеся по субботам кусочек жареной рыбы и крутое яйцо непременно забирал в барак, да причитавшейся по средам микроскопической котлетой, в которой, кроме сои с пережаренной панировкой, ничего не было, не брезговал. По поводу прочих незатейливых компонентов арестантского рациона, что с ещё догулаговских времён объединялись под почти зловещим термином «баланда», он морщил нос, традиционно сопел и натужно выцеживал:
— У меня от этого живот пучит…
Все процессы, стремительно набиравшие силу в сознании Петровича, незамеченными для прочих арестантов не прошли. Да и что пройдёт мимо намётанного взгляда российского зека? Соответственно, на всё реагировал острый арестантский язык. Потому и нейтральная кличка «Петрович» сменилась на более конкретную — «Запарик». Запариками на тюремно-лагерном языке называют лапшу быстрого приготовления, самый распространённый компонент содержимого арестантских посылок. Так что вполне говорящей, хотя и вовсе не обидной, почти ласковой, оказалась вторая кликуха Володи Петрова.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу