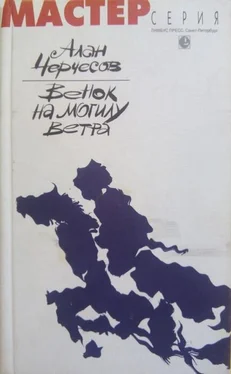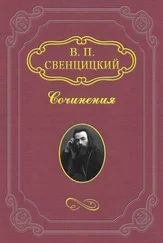Глядя на то, как меняется его жизнь, обрастая ровной, словно частокол загона, чередой блеклых дней, мужчины морщились от отвращения. Проведя вокруг пальца свою летучую и разящую, как стрела, судьбу, Астемир променял ее на вязкое существование, похожее на забытье, на убаюкивающий покой привязанности, ибо просто любить и быть любимым на поверку значило для него больше, чем торжественная память аульчан, куда он мог бы при желании достойно удалиться, оставшись навсегда для них непобедимым и завидным воплощением доблести. Особенно их оскорбляло и откровенно угнетало то, что он нисколько не страдал своим негордым нынешним состоянием, а, напротив, был им видимо доволен. И тогда, размышляя над его странным выбором, Алан впервые удостоверился в том, что человек действительно может быть шире отведенного ему удела, а судьба — не что иное, как жесткое русло истории, уместившееся в берега одобрившей ее молвы. И если отец близнецов пытался грести против ее течения и не рассчитал при этом сил, то Астемир поступил куда как проще и естественнее: завидев протянутую руку, он уцепился за нее и выбрался из реки вон, обустроив в угрюмом шепоте одураченного его выходкой соседства свой собственный укромный уголок. Так он стал свободным. И свобода его могла научить большему, чем была бы в состоянии научить отвергнутая участь. Его свобода доказывала, что стоит только в нужную минуту уцелеть, — и человек способен на самом крутом вираже судьбы вырваться в иную, новую совсем и удивительную жизнь, найдя в ней тихую сладость спасения.
Только остальных почему-то это не радовало. Наверно, людям неприятно было думать, что в каждом из них может обитать кто-то еще, кого они нисколечко не знают. Свыкнуться с этим они не хотели: среди них не было близнецов.
VII
В чем-то Аслан был явно смелее. Прыгая с дерева наземь, переходя речку вброд, затевая ссору со сверстниками или исчезая по ночам на поиски приключений, он, похоже, наслаждался опасностью, едва ли отдавая себе отчет в том, что может ей проиграть. С тех пор, как не стало отца, в нем поселилась какая-то покоряющая отвагой безоглядность, нерассуждающая прыть, легкая порывистость движений, вязавшая из подгнивших нитей молью истраченной скуки расписанных загодя лет грубые лохматые узлы, при помощи которых он, как по канату, взбирался на макушку очередного постылого дня, умершего, казалось, прежде еще, чем проснулось осветившее его недужную бледность солнце, зажигал там сердитое огнище бесшабашного своего упрямства, бегло осматривался хищной птицей и, заприметив новый склон в разводах сумерек, находил себе тем самым дело и на завтра. Всякий выигранный спор (орлиное гнездо на крутой ущельной скале, разоренное лишь для того, чтобы в который раз доказать свое превосходство в бесстрашии; пылающий уголь, доставленный в голых ладонях из очага в придорожную лужу; шапка снега, не снимаемая на морозе с головы несколько часов подряд; сырое мясо медвежьего ребра, съеденное без щепотки соли и глотка воды; мякоть собственной голени, пронзенная в потном молчании досиня раскаленной спицей; самоубийственный, запретный, восхитительный нырок в водопад с карниза речного порога) был сам по себе откровенно бессмыслен, но утверждал его в рискованной (и, пожалуй, завидной для всех остальных) уверенности в том, что старый, затхлый мир этот можно расшевелить и пронять до нутра, лишь соревнуясь с ним же в безумии. Победить свою жизнь можно было лишь перестав дорожить ею вовсе. А потому была в нем какая-то потаенная сладкая ярость, прорывавшаяся наружу всякий раз, как он вспоминал об отце: тому-то ярости как раз и не хватило.
Конечно, брата боялись. Наблюдая за ним — за тем, как он ходит и дышит, за тем, как бежит за конем, как со скрипом зубовным побеждает на скачках и в споре, терзает издевкой свой же нечаянный смех, презирает настырную, давнюю боль и дерется, — Алан понимал, что, в отличие от сдавшегося на милость болезни отца, безотлучно, до самой кончины, кротко сидевшего при блуждающей вкруг него смерти и наблюдавшего за тем, как она равнодушно ворожит в тяжелеющем воздухе ленивыми узорами кошмаров, брат носил смерть с собой — словно подобрал в подполье злого котенка, сунул за пазуху и не пожелал с ним расставаться — до тех пор, пока тот не подрастет и заматереет настолько, что новый удар приютившего его ненависть сердца разбудит в нем дикую жажду испробовать его кровь. Рано или поздно, но котенок должен был выпустить когти. Вопрос был в том, как глубоки окажутся шрамы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу